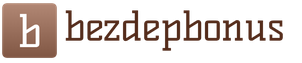Габриэль марсель. Г.М
Другой представитель французского экзистенциализма А. Камю.
Он получил, как и Ж.-П. Сартр, неплохое образование, правда ему, выходцу из самых "низов" общества. оно далось с большим трудом. Приходилось думать не только об учебе, но и о хлебе насущном. Небезынтересно, что оба мыслителя пережили увлечение коммунистическими идеалами, оба охладели к ним потом, хотя довольно долго, каждый по-своему, вынашивали идею о том, чтобы дополнить марксизм экзистенциализмом. И Сартр, и Камю активно участвовали в движении Сопротивления. Уже при жизни и тот и другой стали властителями дум поколения, особенно молодежи.
Не без основания сближая двух этих выдающихся мыслителей, исследователи их творчества замечают нередко, что А. Камю даже более абсурден, погружаясь в отчаяние глубже, чем Ж.-П. Сартр.
Сам Камю едва бы согласился с этим. "Верно, что люди моего поколения видели слишком много, чтобы мир мог сохранить для них видимость "розовой библиотеки", - признавал философ. - Они знают, что есть тюрьмы и казни на рассвете, что невинность часто убиваема, а ложь торжествует. Но это не отчаяние! Это - ясность. Подлинное отчаяние означает слепоту. Оно примиряется с ненавистью, насилием и убийством. С отчаянием такого рода я никогда не соглашался".
И все же справедливо: А. Камю своеобразно опоэтизировал именно отчаяние и абсурд человеческого существования, придав им поистине глобальные масштабы. Одна из самых значительных работ философа "Миф о Сизифе" имеет характерный подзаголовок: Эссе об абсурде.
Работа начинается с утверждения: "Есть лишь одна по-настоящему философская проблема - проблема самоубийства. Решить, стоит или не стоит жизнь, чтобы ее прожить, - значит, - ответить на фундаментальный вопрос философии. Все остальное - имеет ли мир три измерения, руководствуется ли разум девятью или двенадцатью категориями - второстепенно".
Несколькими строками ниже:
"Я никогда не видел, чтобы кто-то умирал за онтологический аргумент. Галилей отдавал должное научной истине, но с необычайной легкостью от нее отрекся, как только она стала опасной для жизни. В каком-то смысле он был прав. Такая истина не стоит костра. Земля ли вертится вокруг Солнца, Солнце ли вокруг Земли - не все ли равно? Словом, этот вопрос пустой Подобная постановка вопроса Камю напрямую перекликается с аналогичным по сути рассуждением Л. Шестова. Русский философ писал еще в 1911 г., что "теперь, вероятно, во всем мире не нашли бы человека, который согласился бы умереть в доказательство и ради защиты Галилея".
Абсурдны рассуждения, абсурдно творчество, абсурден сам человек, - как бы говорит нам вновь и вновь А. Камю.
Философия Габриэля Марселя
Имеет смысл назвать здесь еще одного французского философа - Г. Марселя. Как и Сартр, он полагает, что экзистенциализм - это гуманизм, как и Сартр, утверждает в своей автобиографической книге с характерным названием "В путь, к какому пробуждению?", что сейчас "гуманизм может быть только трагическим". Но, по Марселю, есть-таки выход из тупика безысходности. Он - в религии. Французский философ разрабатывает экзистенциализм как религиозное по сути учение, будучи убежден, что именно экзистенциализм - самая религиозная философия нашего времени. В трактовке Г. Марселя несколько трансформируется проблематика рассматриваемой философии. На первый план выходит не отчаяние и страх, а робкая надежда. Свои взгляды Марсель определяет как "философию надежды".
Как было отмечено выше, Марсель был основателем французского католического экзистенциализма.
Марсель, считая невозможным и неприемлемым научное обоснование религии, отвергает рациональные доказательства бытия бога и утверждает, что бог принадлежит особому миру "существования", недоступному для объективного мира науки.
Бог, по Марселю, существует, но не обладает объективной реальностью, не принадлежит миру "вещей"; он "непредставляем", "неопределим", его нельзя мыслить: "мыслить веру - значит уже не верить". Таким образом, апология христианства Марселя резко отличается от традиционного католицизма, от схоластического метода.
В отличие от "мира объективного", в сфере "существования" исчезает граница между субъектом и объектом. Духовное начало, трактуемое объективно, а не субъективно, и тем самым доступное логическому анализу и рациональному познанию, неприемлемо для Марселя.
Для экзистенциализма Марселя характерно противопоставление двух понятий: проблемы и таинства. Первое характеризует "мир объективности", второе - сферу "существования".
"Проблема, - гласит определение Марселя, - есть нечто встреченное и преграждающее мой путь. Она всецело передо мной". В этом случае нечто рассматривается со стороны, к нему подходят объективно, как к находящемуся вне и независимо от кого-либо. Проблема находится в сфере логического.
"Таинство" - это понятие, которое Марселем противопоставляется понятию "проблема". Таинство не противопоставляет субъект объекту, "Я" - "не-Я", познающего - познаваемому. Оно включает, вовлекает тебя самого, твое существование, сливает воедино "Я" и "не-Я", выводит за границы созерцательности, стирает грань между "вне меня" и "во мне". Тем самым оно преодолевает объективный, логический подход.
Итак, в сфере "существования", мир перестает быть "проблемой" и становится "таинством". Объективность всячески исключается из понимания отношений, связей, зависимостей.
В сфере "существования" у Марселя принципиальное место занимает "интерсубъективность", а не объективность. "Объективная реальность" уступает место "второму лицу". "Присутствие" становится одной из основных категорий. Причинная связь вместе с другими формами объективных взаимозависимостей теряет онтологическое значение. На их место приходят любовь, привязанность, вера, верность, ответственность, уважение, послушание, доступность. "Быть - это быть любимым" - характерная для этой онтологии формула. Причем это распространяется не только на отношения между людьми, но и на все отношения вообще.
Онтология Марселя не является натуралистичной. Явления природы мало интересуют Марселя. Его онтология резко антинатуралистична. Но коль скоро в ней заходит речь об отношении к природным вещам, оно устанавливается по образцу и подобию интерсубъективной эмоциональности. Объективное познание природы не ведет, по Марселю, к истине. "Как может, - риторически вопрошает он, - то, что мы называем реальность, или если кому угодно природой, дать ответ человеку в его поисках истины?"
Удивление, восхищение, причастность - основные характеристики "бытия-в-мире". Именно здесь один из основных переходов от "антропологии" к теологии: явления природы как творения не ведут в царство "безличного", а служат для человека одним из источников восхищения их творцом.
Философия Марселя, по сути дела, не антропоцентрична. Любовь к людям покоится на любви к богу и отношении к другим как "детям божьим"; братство людей - это братство во Христе.
По своей сути философия Марселя теоцентрична. Мир в целом - не более чем связующее звено коммуникации с его творцом, как и другие "Ты", приобщающие "Я" к абсолютному "Ты".
В экзистенциалистских построениях Марселя широко используются категории "быть" и "иметь", которые необходимо различать.
"Иметь" - это отношение к вещи, к объекту, к тому, что может быть отделено, отчуждено от меня, к чему я могу быть непричастным. "Быть тем или иным", напротив, неотделимо от меня. В этом отличие того, что я имею, от того, что я есть.
Марсель вводит здесь построение, аналогичное разделению "неподлинного" и "подлинного" существования в философии Хайдеггера.
Категория "быть" и связанная с ней идея воплощения раскрывают у Марселя проникновение в "таинства" бытия-в-мире. Идея воплощения переносится философом на всю природу, которая превращается в воплощение абсолютного "Я".
Таким образом, экзистенциализм выступает против субъект-объектных, вещных, предметных отношений как не раскрывающих сути бытия.
Марсель рассматривает обобщение и абстрагирование как величайшее философское зло. Он зовет отрешиться от абстрактного мышления и повернуть к конкретному, единичному, индивидуальному - от "сущего" к отдельным существам во все м их своеобразии, со всеми их отличительными особенностями.
Наука, по мнению экзистенциалистов, обладая механизмом универсализации, всюду внедряет "дух абстракции", в котором все конкретное, "личностное" уничтожается, заменяется "безликим", "общезначимым".
"Никогда не следует забывать, - пишет Марсель, - что если превосходство науки состоит в том, что она для всех, то этому превосходству сопутствует тяжкое метафизическое возмездие; наука для всех только потому, что она ни для кого в отдельности".
Философ критикует "индустриальное общество", считая практическим эквивалентом "духа абстракции" функционализацию, обезличение, "омассовление" человека, "распыление" личности в обществе. Марсель рассматривает технический прогресс, организованность, планирование, коллективизм как возрастающую угрозу антииндивидуалистических сил, направленных к гибельному растворению личности в обществе.
Ярким представителем католического экзистенциализма был Габриэль Марсель (1889-1973). Он родился в семье дипломата, детство провел в Щвеции, закончил Сорбонну. В 1929 г. уже в возрасте 40 лет Марсель стал католиком. Первое свое сочинение "Метафизический дневник" Марсель начал писать в 1913 г. и опубликовал в 1927 г. В книге "Быть или иметь" (1935) помещен "Метафизический дневник" за 1928-1933 гг., т. е. за тот период, когда автор стал католиком. На примере "Метафизического дневника" можно сказать об особом стиле Марселя фрагментарном, непоследовательном, парадоксальном. Марсель стремился к форме исповеди, искренней и открытой.
В год принятия католичества, 5 марта 1929 г. он писал: "Я больше не сомневаюсь. В это утро изумительная удача. В первый раз я отчетливо пережил опыт благодати (la grace) . Слова отвратительные, но это так. Я был, наконец, погружен в христианство. И я утонул в нем".
Однако, пройдя религиозное обращение , Марсель продолжал искать основы для своей веры. Ему была неприемлемы рациональные теории, подобные неотомизму. Марсель продолжает искание веры , исходя из своего конкретного опыта, из актов личного сознания. Марсель писал, что "таинственная связь между благодатью и верой возникает везде, где есть верность". После "верности" Марсель называет другую составляющую часть веры - надежду . По его мысли надежда "возможна только в мире, где есть место чуду" . По мнению Марселя, "душа существует только благодаря надежде: надежда, возможно, является самой тканью нашей души ". Так Марсель постепенно выстраивал систему экзистенциальных понятий, основанных на личном жизненном опыте, а не на отвлеченных абстракциях.
В статье "Экзистенция и объективность", включенной в книгу "Метафизический дневник", Марсель развел два мира: с одной стороны, экзистенция человека как средоточие страданий, а с другой - безликий "мир объектов" как создание абстрактного разума. Эта противоположность легла в основу книги "Быть или иметь" . По Марселю, "иметь" - это погрузиться в мир и материю, жить телесной жизнью, отрешившись от бытия Бога. "Быть" - это преодолеть внешнюю подчиненность, обрести свободу и вернуться душой к Богу.
По мысли Марселя, человек - это "воплощенное бытие" , который, осознавая свою воплощенность, ощущает мистическую связь духа с телом. Экзистенциальное философствование неизбежно предполагает осознание себя как воплощенного, телесного субъекта "в плену" пространства и времени . В человеческой экзистенции и только в ней Марсель ищет основы для религиозного понимания бытия. Для человека, считал Марсель, характерна онтологическая потребность - потребность быть . Это экзистенциальное бытие достижимо через сосредоточенность, главная цель которой заключается в мистическом постижении Присутствия Бога. По Марселю, единственный выход из замкнутого экзистенциального состояния состоит в познании Бога , ощущении своей связи с Ним. Это познание происходит не рационально, а путем личной мистической встречи с Богом. Марсель задается целью построить "конкретную онтологию", основой которой является проникновение в Тайну бытия. Понятие Тайны есть то, что Марсель противопоставляет рациональным объяснениям христианства. В постижении Тайны бытия и обретении Присутствия Бога заключается для человека возможность победить время и смерть. О Присутствии Бога говорят не рациональные теории, а свидетельство самой жизни человека, обретающего веру и отказывающегося от внешнего мира и его ценностей.
В послевоенное время Марсель много ездил с лекциями по миру (США, Канада, Япония, Марокко, Латинская Америка и др. страны). В 1949-1950 гг. он прочитал курс лекций в Абердинском университете в Великобритании, затем эти лекции вышли в виде 2-томного издания "Тайна бытия". Марсель был также незаурядным драматургом, в его пьесах философские идеи воплощены на примере конкретных персонажей и проецированы на различные жизненные ситуации (пьесы "Смерть назавтра", "Чужое сердце", "Человек Божий" и др.). Стремление обобщить собственный философский опыт привело Марселя к созданию "Опыта конкретной философии" в 1967 г.
На философском конгрессе в Риме (1946) философия Марселя получила наименование "христианский экзистенциализм" . Однако после осуждения экзистенциализма энцикликой римского папы в 1950 г. Марсель отказался от этого определения и предпочел название "неосократизм" . Тем самым он заявил отказ от системного философского мышления в пользу вопросительной формы размышлений, считая, что человек-мыслитель вовлечен в драму бытия (он - не зритель, а свидетель ). Радикальное вопрошание и сомнение стали основой философии Марселя, которая предназначалась как для верующих, так и для неверующих. Марсель философствовал вокруг религии, но никогда - в границах теологии . Его принципиальная установка на личный религиозный опыт делала ненужными догматические принципы, что и привело к осуждению экзистенциализма в Католической Церкви.
Марсель Габриэль
ТЕАТР ГАБРИЭЛЯ МАРСЕЛЯ
Вступительная статья
Пьесы Габриэля Марселя - основоположника французского экзистенциализма - публикуются на русском языке впервые; они фактически неизвестны даже тем, кто хорошо знаком с философским наследием выдающегося мыслителя. Поскольку в отечественной литературе отсутствует какая бы то ни было «предыстория» отношения к драматургии Г. Марселя, читателю, и, возможно, будущему зрителю, предстоит воспринять пьесы непосредственно, основываясь на мире лично пережитого и на опыте двадцатого столетия, вписавшего в историю много трагических страниц.
Для того чтобы точнее представить себе новизну, особенности того, во многом неожиданного (быть может, не только для своего времени), сценического материала, какой являли собой пьесы Марселя первой половины двадцатых годов, - вероятно, стоит начать с их критических оценок далеко не самыми недоброжелательными современниками. В 1925 году автор рецензии на первую постановку «Пылающего алтаря», опубликованной в парижском еженедельнике «L’Europe nouvelle», отмечал непривычную «резкость, обнаженность чувств… и, как результат, - ощущение тягостного беспокойства, неуютности, вызываемое пьесой у значительной части публики». Показательна характеристика, данная известным историком литературы и театра Луи Шенем. В пьесе «Семья Жорданов»(1919) он видит в первую очередь «хронику демобилизации, повсеместно происходившей в то время во Франции»; пьеса, по его мнению (как, впрочем, и вся драматургия Марселя), не выходит за рамки конкретной, узко «локальной» проблематики первых послевоенных лет. У Шеня, как и у многих других, нарекания вызывала именно эта злободневность, документальность, насыщенность политическими аллюзиями - все, что, по убеждению критиков, могло стать малопонятным будущему зрителю и уже само по себе снижало художественную ценность пьес. Определение «хроника» становилось как бы обязательной оговоркой и в случае признания достоинств произведений Марселя (а наиболее проницательные из комментаторов уже в те годы говорили о редкой способности автора «выводить на сцену живых людей и сталкивать характеры», о «непривычном для театра уровне истины и глубины»). По поводу «Завтрашней жертвы» тот же Шень замечает: «Эта вещь, столь оригинальная… все еще слишком отдает жанром хроники».
Однако истекший большой исторический срок, век, трагически отмеченный двумя мировыми войнами и проходивший в западной литературе под знаком Ремарка, Хемингуэя, Белля, - это та призма, сквозь которую слова «хроника демобилизации» преломляются совершенно иначе, из сомнения и вопроса превращаясь в точное и значительное определение характера и смысла драматургии Марселя.
Впрочем, и в двадцатые годы необычность, «терпкость» его пьес часто встречала глубокое понимание - если не у директоров театров и режиссеров, то у видных деятелей литературы. «Ваши пьесы поразительно волнуют меня», - признавался Марселю Андре Жид, у которого в это время на сценах Парижа шли «Саул» и нашумевшая инсценировка «Процесса» Кафки. Бенжамен Кремьё, недоумевая по поводу жанра «Пылающего алтаря», тем не менее называл пьесу одним из самых насыщенных, самых значительных произведений, которые ставились на французской сцене за последние десятилетия.
Манера письма Марселя озадачивала не меньше, чем «жанр»: в первую очередь, непривычная, аскетичная сухость языка, лаконичность диалогов, отсутствие каких бы то ни было стилистических прикрас, возможно, вообще - «стиля»; резкий, на каждом шагу, «обрыв» фразы: смысловой, логический, грамматический, - реплики как бы повисают в воздухе. Отсутствие монологов (за редчайшим исключением), быстрота подачи кратких жестких реплик (как писал один из критиков в сороковые годы, «здесь все - мгновенный натиск, отражение, схватка»). И при этом - выразительная, «разностильная» речь персонажей: лексика интеллигенции скромного достатка - священников, фронтовиков, врачей; велеречивость парижского мещанства; грубое просторечье разбогатевших собственников, речевая изысканность музыкальных кругов, сленг. Следует отметить особо: собственной марселевской языковой стихии, равно как и собственных марселевских оценок, нет ни в чем. Проблема автора - а если говорить словами Марселя, проблема отсутствия автора - была для него первостепенной как в связи с его крайне негативным отношением к очень распространенной во Франции pièce à thèse («драме идей»), так и, безусловно, в связи с собственными творческими склонностями. «В драме, - писал Марсель, - автор еще более, чем в романе, принуждается к Aufopferung… Он должен буквально поставить себя на службу некой правде - внутренней правде персонажей. Ему запрещено использовать их в целях, которые он может иметь сам как моралист или как политик». Главная черта писателя - слушать, замечал Марсель. «Пьесы мои, - утверждал он, - это, в сущности, протест против любых формул, в которые пытаются заключить жизнь. Любовь, которую я питаю к драматургии Чехова, связана с тем фактом, что жизнь там воссоздана во всей полноте, она никогда не бывает искажена авторским вмешательством». Отметим, что с творчеством А. П. Чехова Марсель познакомился лишь в 30-е годы, когда писатель был переведен во Франции, и не сразу воспринял его во всей полноте. Но позднее Марсель напишет: «В настоящее время оно мне кажется неисчерпаемым - и тем самым радикально отличается от всех других произведений современной драматургии, которые не так уж трудно обозреть: я имею в виду как Брехта, так и Пиранделло и Ануя, если ограничиться именами этих трех писателей, чье значение не может быть оспорено».
Свои взгляды на драматическое искусство Габриэль Марсель излагал не раз, начиная с 1914 года; что-то в них безусловно менялось - но то, что было изначально неприемлемо, осталось таковым навсегда, поскольку было органично чуждо его натуре писателя. Он отвергает театр, играющий на непосредственной чувствительности, «на нервах»: никакого эмоционального «нажима» на зрителя; Марсель считал это слишком грубым средством воздействия, несовместимым с подлинными художественными требованиями. Театр призван апеллировать единственно к «чувствительности разума»: поэтому в мотивах поступков марселевских персонажей - ничего «подсознательного». Еще в 1914 году, в связи с растущей популярностью теорий бессознательного, Марсель писал: «…В последние годы мы часто являемся свидетелями попыток использовать многие элементы трагического, связанные с подсознательной жизнью человека: этот туманный лиризм, зародившийся в символизме, не замедлил коснуться и театра, мы ему обязаны прекрасными произведениями. Однако здесь кроется большая опасность: быть может, лишь гений Шекспира или, в наши дни, Ибсена является источником света, мощным настолько, чтобы прояснить все, вплоть до этих тайников души. Мысль не столь могучая при попытках обрисовать этот смутный мир чревата впадением в произвол, в неопределенность, она готова довольствоваться бледными символами и сомнительными аналогиями… Конечно, нельзя, чтобы драма могла быть сконденсирована в одной-единственной, абстрактной формуле развития, которой бы исчерпывалось ее содержание; поэтические, лирические моменты, то есть темы, рассчитанные на индивидуальную разнообразную восприимчивость, могут и должны там присутствовать. Однако при этом нужно, чтобы они были подчинены некоему внешнему движению, являющемуся как бы объективной жизнью драмы. Я лично считаю, что драма должна быть ясно и четко выражена; трагический лиризм, который мне хотелось бы видеть, - это лиризм ясного сознания».
В театре Марселя, при всем трагизме тематики, скоплении бед и страданий, очевидной безысходности - никакой мелодрамы, «эффектных развязок», сведения счетов с жизнью и т. д. (Еще одна черта драматургии Марселя - полное отсутствие патетики - могла служить основанием для сближения ее с «хроникой», с «фиксацией» происходящего.) Героев пьес Ибсена и Гауптмана, особенно высоко почитаемых Марселем драматургов, из замкнутого мира, где нечем дышать, зачастую выводит самоубийство. Для Марселя подобная развязка исключена. Поведение его персонажей - хотя обстановка накалена до предела - внешне сдержанно. Более того, какова бы ни была драма, переживаемая действующими лицами, - в итоге редко что-либо меняется. Героиня пьесы «Жало» (1936) Беатрис говорит; «Я часто замечала, что как раз самое ужасное в жизни никогда не приводит к драме. Худшее обычно ни во что не выливается; как улочки на окраинах большого города, теряющиеся где-то на пустырях…»; после пережитых потрясений, след которых останется навсегда, супружеская чета Лемуанов («Человек праведный», 1922) продолжает свое педантичное, размеченное по часам существование; Морис Жордан («Семья Жорданов»), страдающий, униженный проницательностью осуждающего его сына, не соглашается ничего изменить в своем давно сложившемся «неправедном» быту. Никакими «прорывами» повседневности не завершаются и другие пьесы Марселя - «Замок на песке» (1913), «Квартет фа-диез» (1917), «Расколотый мир» (1932)… По словам самого автора, их итог - лишь дисгармоничный аккорд. Что в пьесах действительно происходит - так это изменения в душе человека под давлением тяжелых обстоятельств; новый, трезвый взгляд на самого себя; возможность увидеть все, столь привычное, в неожиданном свете; неразрешимость коллизий, возникших в человеческих отношениях (и здесь нам слышится столь знакомый чеховский мотив). В ответ на упрек, который Марселю доводилось слышать от руководителей театров по поводу того, что в его пьесах мало действия, он отвечал: «Изменение человека в ходе пьесы - это и есть действие в драме». Не случайно одна из лучших, в глазах Марселя, страниц драматургии нашего времени - это трагический переворот в душе скульптора Крамера из одноименной пьесы Г. Гауптмана: Крамер потрясен самоубийством калеки-сына, растрачивавшего свой большой талант в разгуле и беспутстве, - он словно прозрел, увидел истинную цену всего, что было в его жизни.
Габриэль Оноре Марсель (Gabriel Honoré Marcel, 7 декабря 1889, Париж, Франция — 8 октября 1973, там же) — первый французский философ-экзистенциалист. Основные произведения: «Метафизический дневник», «Опыт конкретной философии».
Во время Первой мировой войны служил в «Красном кресте». Работал в нескольких литературных журналах, рецензируя иностранную литературу. В 1920-е годы написал несколько пьес, поставленных в Париже. Сначала находился под сильным влиянием Сёрена Кьеркегора, но в 1929 году стал ревностным католиком. Глубокая религиозность и гуманизм отделяли Марселя от последующих французских экзистенциалистов (таких, как Жан-Поль Сартр). С 1945 года он увлекался сочинением музыки (на слова стихотворений Шарля Бодлера и Райнера Марии Рильке).
Основные категории философии Марселя — «бытие» и «обладание». Всякий человек существует как личность, как «Я»; его бытие неотчуждаемо от него, оно — не нечто предметное, внешнее, а нечто внутреннее, переживаемое. Напротив, вещи, предметы, объекты, которыми обладает человек, могут быть отчуждены от него. Особую роль в учении Марселя играет понятие «тело». Моё тело есть не только то, чем я обладаю, оно является также и элементом моего бытия. Моё тело — это граница между «быть» и «иметь», ибо наличие тела — необходимое условие всякого обладания. В отличие от тела, душа есть идеальное бытие.
Книги (3)
Быть и иметь
Философский сборник Марселя «Быть и иметь» состоит из Метафизического дневника — фрагментарных записей 1928-1933 годов, в которых отразился внутренний опыт и повседневные размышления философа, и Очерка феноменологии обладания — текста доклада, сделанного Марселем в Философском обществе Лиона в 1933 году.
Как следует из названия работы, центральными понятиями философии Марселя являются «бытие» и «обладание» — взаимоисключающие и противоположные категории. Марсель проводит чёткое различие между миром «онтологическим» и миром «трансцендентным»: «в акте трансцендирования, противоположном онтологическому, осуществляется мое соединение с Богом. И именно по отношению к этому соединению утверждает и определяет себя моя свобода».
О смелости в метафизике
В книге представлены работы об экзистенциальной онтологии, написанные католическим экзистенциалистом Г. Марселем (1889-1973) с конца 40-х до начала 70-х годов XX века. Впервые полностью на русском языке публикуются письма Г. Марселя Н. А. Бердяеву.
Габриэль МАРСЕЛЬ
Трагическая мудрость философии
Избранные работы
Перевод с французского Гаянэ Тавризян
Издательство гуманитарной литературы
Г.М. Тявризяи Габриэль Марсель: философский опыт о человеческом достоинстве
Габриэль Марсель
Избранные произведения: Экзистенция и объективность 49
Онтологическое таинство и конкретное приближение к нему 72
Человек, ставший проблемой 107
Поль Рикёр - Габриэль Марсель: Беседы 146
Примечания 188
Γ. Μ. Тавризян
Габриэль Марсель: философский опыт о человеческом достоинстве
Табриэль Оноре Марсель (1889-1973) известен читателю прежде всего благодаря своей принадлежности к блистательной плеяде экзистенциалистов, к направлению в философии, в духовной культуре, популярность которого достигла своего апогея в первое десятилетие после окончания второй мировой войны. Таким знают Г. Марселя не только в России, но и, в читательской массе, в самой Франции. Известно еще, что имя его, старейшего представителя философии существования, стало часто звучать именно в период этого взлета, этой «новой волны» экзистенциализма с его патетикой изобличения общества и, одновременно, суровостью самоизобличения экзистенциального субъекта, но что уже к концу 40-х гг. Марсель отмежевался от направления, завладевшего умами послевоенной потрясенной пережитым, прозревшей и медленно начинавшей оживать Европы; он отказался от ставшего уже привычным для определения его философии термина «христианский экзистенциализм», что совпало по времени с Энцикликой папы Пия XII «Humani generis» (1950 г.), осудившей экзистенциализм.
Путь Габриэля Марселя в философии был самобытен и одинок. Позиция, которую ретроспективно нельзя охарактеризовать иначе как абсолютно экзистенциалистскую, и в этом плане провозвестническую, определилась уже в годы первой мировой войны; и позже Марсель прошел через «пик» эк-
зистенциализма 40-50-х, столь же одинокий, не примкнув к новым платформам, к идеям, в значительной мере ему чуждым, продолжая развивать "вечные" экзистенциальные сюжеты своей философии. Воспитанный на немецкой классической философии, в первую очередь на философии Канта и Шеллинга, впитавший в себя в юные годы идеи некоторых английских и американских мыслителей конца XIX - начала XX в., таких как Дж. Ройс или Ф. Брэдли, Г. Марсель поразительным образом оказался философом прежде всего экзистенциального опыта человека современной эпохи и, в этом смысле, не системотворцем, не создателем школы, а философом - одинокимсвидетелем. (Так, если Этьен Жильсон называет Г.Марселя продолжателем традиции Паскаля, Монтеня, Мен де Бирана, - в этом перечне имен есть и характер «жанра», отзвук одиночества, исконно французского «авторского» философствования.) Впитанные Марселем в юности философские традиции влились в эту философию, которую можно назвать историей человеческой жизни с «отраженным в ней Небом»(Марсель), и лирической глубине этой жизни, этого неба у Марселя ничто не способствовало так, как опыт страданий человека в трагический век и решающие моменты его собственной биографии.
Жизненная позиция Г. Марселя отличалась от позиции лидеров французского экзистенциализма, он не оказывал будоражащего влияния на общественность, был далек от злободневной политики, без одобрения глядел на демарши «левых» и вообще казался человеком «старых времен». И только по прошествии значительного времени - нескольких десятилетий - становится очевидным, что в действительности он свидетельствовал не только об индивиде, но свидетельствовал о целой эпохе, о политике, об обществе, о путях развития цивилизации, об опасностях, и его суждения подчас поражают своей страстностью, независимостью от популярных идей того времени. Многие его наблюдения могут быть спроецированы на сегодняшний день, иные - на завтрашний; и вопросы, казавшиеся ему больными, увы, и сейчас далеки от своего разрешения.
Не включаясь в привлекавшую многих его современников общественно-политическую деятельность и избегая даже преподавания (как и всего, что могло заключать в себе элемент морализаторства), Г. Марсель тем не менее был очень
==8
теллигенции этой эпохи - активной, разносторонне одаренной, стремящейся проявить себя в самых различных областях науки и искусства: философ, драматург, музыкант, театральный критик и музыкальный обозреватель ведущих парижских газет на протяжении многих десятилетий, автор литературоведческих работ, консультант издательств, всеми силами содействовавший выходу во Франции лучших произведений зарубежной художественной литературы... О последовательности и значительности миротворческих усилий философа в период «холодной войны», усилий по консолидации деятельности представителей культуры на основе гуманизма говорят присуждавшиеся ему международные премии: премия Гете (1956), премия Мира (1963), премия Эразма (1969). Кстати, значительную часть последней Марсель выделил для оказания поддержки писателям стран Восточной Европы, «разделяющим уважение к общеевропейским ценностям», предоставления им стипендий для путешествий и стажировок. И хотя определенно можно сказать, что известность Марселя за рубежом была шире, чем известность его во Франции (особенно, после спада экзистенциалистской волны), однако и дома деятельность философа, охватившая три четверти двадцатого века, была отмечена многими высшими наградами.
Габриэль Марсель родился в Париже, в семье дипломата, государственного советника. Детство провел в Стокгольме: в 1890 годах Анри Марсель был полномочным представителем Французской Республики в Швеции. Четырех лет ребенок потерял мать. Эта утрата оставила глубокий след в его жизни: тема смерти ближнего, вопрошаиие о бессмертии души, метафизика надежды стали важнейшими в его творчестве. В 1900 году Анри Марсель - человек, чья эрудиция даже в его среде была исключительной, дипломат, эстет, замечательный знаток и любитель музыки - получил назначение на должность директора художественных музеев Франции.
Габриэль Марсель получил образование в лицее Карно и в Сорбонне. Война застала его восемнадцатилетним юношей, хрупкого здоровья, сосредоточенным в себе. К тому времени им был написан ряд философских очерков - опытов сравнительного исследования философии Колриджа и Шеллинга, а также анализа некоторых проблем, уже доста-
точно характеризовавших его интересы: причастности (participation), обоснования ценностей, неверифицируемости и др.
«Метафизический дневник» - первое опубликованное произведение Г. Марселя - был начат в 1913 году. Темы, разработка которых намечалась автором в традициях английского неогегельянства, вскоре, однако, получили совершенно иную интерпретацию; вторая часть «Дневника» и, прежде всего, помещенная в качестве приложения к ней статья «Экзистенция и объективность» положили начало экзистенциалистской философской литературе во Франции.
Экзистенциализм заявил о себе как оппозиция любым рационалистическим, панлогическим теориям, распространяемым на историю: в них он усматривал абсурдные попытки объяснения и предвидения хода исторических событий, основывавшиеся на иллюзорной концепции «объективных» закономерностей истории, идее прогресса, исторического разума. Попытки говорить «от лица истории», эпохи, цивилизации дезориентировали людей, лишали их возможности трезво оценивать ту непосредственную ситуацию, в которой им предстояло жить, действовать, принимать решения. Всей этой спасительной лжи мировой войной был нанесен сокрушительный удар*. Уже субъект истории в «Метафизическом дневнике» Марселя - это человек, чье существование исключительно уязвимо, подвержено страданию, человек, которым движет не осознание "законов истории", необходимость приблизить будущее, а, в первую очередь, непосредственное чувство протеста, растерянности или горя, привязанность к близким ему людям и жажда уберечь их от бед.
Мировая война с первых же дней означала для тех, кто отстоял далеко от агрессивных замыслов и милитаристской политики правящих кругов, крах иллюзий относительно дальнейшего продвижения Запада по пути цивилизации; возникло" сомнение в прочности и будущем этой цивилизации. Положение Анри Марселя давало доступ ко многим дипломатическим документам; Габриэль жаждал убедиться, что его
Вспоминая атмосферу довоенных лет, Марсель писал: «Никто из нас, я думаю, не подозревал, какой хрупкой и ненадежной была цивилизация, которой мы считали себя защищенными и которой толща веков, как нам тоща казалось, сообщала такую прочность, что было бы безрассудством ставить ее под сомнение» (Marcel G. Regard en arriиre // L"Existentialisme chrйtien. P., 1947. P. 321).
|
Γ.Μ. Таврчзяи |
страна не виновна в развязывании мировой бойни; при этом его не оставляла тревога, обоснование которой он нашел гораздо позже*. Как и многие деятели культуры, писатели его поколения, Г, Марсель пронес печать этой трагедии через все свое творчество. Уже в семидесятые годы в открытом письме Дени де Ружмону, которое он публикует в «Les Nouvelles littйraires» в ответ на попытки известного литератора подвергнуть критике глубокий пессимизм Поля Валери, во власти горестных воспоминаний Марсель угверждает Европейская культура умерла 1 августа 1914 года. Я вижу сейчас, что наша блистательная литература в период между двумя войнами - это лишь сияние, разлившееся на равнинах после захода солнца»**.
Из-за слабого здоровья Г. Марсель не мог быть призван в армию. Однако в силу этого обстоятельства он столкнулся с другой стороной войны, не менее страшной, во многом определившей его жизнь. Он нес службу в Обществе Красного Креста, на его долю приходилась тяжкая миссия общения с близкими тех, кто был на фронте - пропавших без вести, погибших; тех, о ком в эти годы российский поэт писал: в рубрике «убитые» набранные петитом.".. Марсель предпринимал все возможные попытки для выяснения участи пропавших на полях войны, всеми силами стремился поддержать родных. Здесь он непосредственно столкнулся с неизбывным человеческим горем, с неповторимостью судьбы каждого человека, с невозместимостью каждой потери, с отчаянием и надеждой, болью и верой.
«Философом экзистенции, - говорит Марсель в конце шестидесятых годов Полю Рикёру, - меня сделала война».
Все эти обстоятельства сыграли далеко не последнюю роль в отвержении философом - на всю жизнь - отвлеченности, «духа абстракции», общих понятий, часто служащих обману либо в силу своей природы способствующих трагедии, поскольку абстракция не способна свидетельствовать об индивиде, конкретном человеке; но именно абстракции фанатизируют сознание, толкают общество на ложный путь, их мож-
Marcel G. En chemin, vers quel éveil? P., 1971. P. 98. Он подчеркивает, что никогда не мог. понять той пассивности, с которой значительная часть французского общества относилась к ремилитаризации Германии в канун второй мировой войны.
·· Marcel G. En chemin... P. 135.
но использовать для разжигания ненависти, чтобы спровоцировать кровопролитие. Фанатизирующая сила абстракций ведет, прежде всего, к игнорированию ценности жизни индивида. В своих работах Марсель неизменно настаивал на том, что он - философ события (йvйnement), противник идеализма, - подразумевая под этим словом главным образом служение отвлеченным понятиям, умозрительным спекуляциям.
"Одновременно можно говорить и о решительном пересмотре представлений в области психологии - представлений, укоренившихся прежде всего под влиянием позитивизма, о поиске метода, который позволил бы преодолеть некую предполагавшуюся грань между «внутренней» жизнью человека, рассматриваемой обособленно, в качестве замкнутого объекта психологической науки, и «внешним» миром, с присущими ему универсальными интеллигибельными законами. Если идеализм на рубеже веков интерпретировал человека преимущественно как бесплотный материал в этом универсуме закономерностей, то для психологических наук этого периода он значил так же мало, поскольку за «фактами» психической жизни позитивистски ориентированный эмпиризм не видел самого смысла и истинных мотивов человеческих действий. Борьба с психологизмом, будь то интроспекция или натурализм, и опровержение неоправданных притязаний рационализма в сфере познания мира и исторических· процессов представлялись на данном этапе единой задачей. Причину несостоятельности современного философского знания экзистенциалисты усматривали в непонимании философией характера взаимоотношений человека с миром. Здесь усилия, предпринимавшиеся Марселем, полностью совпадали с усилиями феноменологии. Ознакомившийся с учением Э. Гуссерля значительно позже, Марсель называет феноменологию одним из ведущих направлений философии XX века, а феноменологический способ отношения к миру - неотъемлемой частью философии.
Так, в статье «Экзистенция и объективность» - фактически манифесте французского экзистенциализма - провозглашается и обосновывается радикальное изменение представлений о субъекте познания. Традиционно рассматриваемый наукой психологический субъект с его внутренним миром, пассивный предмет стороннего наблюдения или интрос-
Γ.Α/. Тавризян
пекции, должен быть оставлен. На его место следует поставить субъективность как сущее, какбытие: это - первая характеристика сознания, лишь затем его делают «объектом». За существованием, которое до сих пор интерпретировалось в духе фрагментарного поверхностного психологизма, необходимо признать его истинный, онтологический вес. (Именно в этом стремлении объединились усилия феноменологии и экзистенциализма.)
Этим объясняется настойчивое требование Марселя вернуть ощущению, которое в гносеологии классического идеализма сведено к несамостоятельному моменту в анонимном процессе познания, его исконное значение, восстановить безусловное доверие к свидетельствам органов чувств. Между тем именно эта живая, чувственно переживаемая связь индивида с предметом его созерцания или эмоций выпала из поля зрения рационалистической европейской науки: подлинный характер общности человека с миром здесь предстал в виде искусственной конструкции, антагонизма отношения между «субъектом» и «объектом».
На данном этапе Марселя интересует конкретный, воспринимающий индивид, остающийся вне поля зрения гносеологии: задача философа - сосредоточить внимание на реальном характере связи субъекта с миром. Не случайно проблемы ощущения, восприятия Марсель называет ключевыми проблемами философии*. Тот факт, подчеркивает он, что человек в современном мире, как бы убедительно последний ни был интерпретирован наукой, уже «не у себя», и неспособность науки что-либо изменить в этом положении вещей заставляет, по убеждению Марселя, признать границы объективности и попытаться проникнуть за ее пределы в сферу, где классическое взаимоотношение субъекта с объектом теряет свой смысл**.
В статье, вопреки рационалистической традиции, опровергается идея полной доступности мира сознанию, его «про-
О той роли, которую эти проблемы начинают играть во французской философии, свидетельствует следующее высказывание Жана Валя, неогегельянца, близкого экзистенциалистам: «В гуще всего происходящего... мы начинаем понимать, что заложенная в нас способность к восприимчивости, приятию не должна быть отодвигаема на второй план даже в сравнении со способностью к творчеству». Les philosophes français d"aujourd"hui par eux-mêmes. P., 1963. P. 63.
·* См. наст. изд.. с. 55-56.
зрачности», абсолютной интеллигибельности вещей*. Как Гуссерль (а позднее и Сартр, с большой экспрессивностью развивавший схожие мысли в очерках по феноменологии**), Марсель подчеркивает реальное сопротивление мира субъекту в качестве чистого субъекта познания: отсюда - иное, в корне отличное от классического понимание связи между действительностью и воспринимающим субъектом: «затронутость, а не осведомленность»; реальность, окружающий мир должны быть не только познаны, но ипризнаны.
И все же в этом диспуте, ведущемся на чисто гносеологическом уровне, в категориях эпистемологии, уже намечены важнейшие проблемы марселевской философии: проблемы бытия, общения, диалога с миром и людьми, интерсубьективности...
Система объектов, утверждает Марсель, вовсе не открывает нам бытия в себе, а скорее маскирует, заслоняет его. В этом отношении Кант, по убеждению Марселя, выполнил великую задачу, введя в философию признание пропасти между объектом ибытием в себе. Может показаться, что в философских теориях идеализма взаимоотношения субъекта с объектом представляют собой двустороннюю связь. В действительности же, отмечает Марсель, "объект" - это то, о чем говорят в третьем лице (и это, утверждает он, его главная характеристика: объект - это то, к чему я безучастен и что безучастно ко мне), он не обладает прямой силой воздействия на человека. Гносеологический субъект, совершенствуя свою систему вопросов и ответов, как бы сам себе «поставляет» объект: вклад самой реальности при этом сведен к нулю.
Итак, если во второй части «Метафизического дневника» на одном полюсе - эта возрожденная, более того, увиденная глазами свидетеля мировой войны экзистенция, как сгусток страдания и боли, то на другом полюсе - противостоящий ей "мир объектов", искусственная конструкция абстракт-
Это не установка на антиинтеллектуализм. Цель этой критики, считает Марсель, дать мысли «утвердиться во Вселенной, которая не была бы миром идей».
· «Мир, - писал Сартр, - не ассимилируется сознанием, не может быть «усвоен» им. Чуждый, непроницаемый, он отталкивает от себя мысль, также не имеющую субстанции, обреченную вечно трансцендировать, рваться за собственные пределы...».Sartre J.-P. Une idée fondamentale de la phénoménoloaie de HuiOieri: l"intentionnalité // Situation I. P., 1947. P. 31.
Г.М. Тавриаян
ного разума, чреватая, однако, реальной катастрофой, всегда несущая в себе угрозу реальной гибели людей, поскольку на ней нет печати человеческого. Нигде впоследствии в текстах Марселя не сталкиваются с такой силой и почти метафорической выразительностью, как в статье «Экзистенция и объективность», эти два антагонистических понятия - конкретного, экзистенции, и универсального мира «абстракций». Меняется тематика его работ, однако остается неизменной позиция в отношении того и другого.
Крайнее и опаснейшее проявление «духа абстракции», в русле которого развивалась западная наука, это, наряду с изгнанием из сферы научного знания вопроса о человеке, индивиде (при том, что проблема человека «разбилась» на массу отдельных дисциплин, в которых образ целостного человека словно лежит в осколках), наращивание власти над природой, гигантский механизм онаучненной техники, аппарат государственно-полицейского управления с его всепронизывающими анонимно-бюрократическими структурами и тд. Связь между абстрактным характером знания и развитием общества Марсель, как позже представители Франкфуртской школы, М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Г. Маркузе, видит самую прямую. Так, в докладе «Онтологическое таинство и конкретное приближение к нему» Марсель, характеризуя ситуацию обездоленного, дезориентированного человека, говорит о «жестоком идеологическом обмане», который «все более и более бесчеловечный порядок и такая же философия (сперва воздействовшая на его формирование, затем ставшая рабским слепком с него) равно постарались укоренить в беззащитных умах»*.
В философии Г. Марселя, а позднее - близкого экзистенциализму М. Мерло-Понти и Ж.-П. Сартра - все значение «мира прожитого» (du monde vйcu - выражение МерлоПонти) в условиях, где общество заставляет субъекта меняться местами с неодушевленным объектом, открывается лишь тому, кто не может в свой черед стать объектом, кто принципиально чужд «миру объектов». Абсолютная прирожденная чуждость индивида той плоскости, где все, любое тело, любая вещь, может стать объектом наблюдения, эксперимента, даже чисто мыслительных операций, - вот на чем Мар-
См. наст. изд., с. 75.
сель постоянно настаивает: экзистенция выводится им из этой сферы.
Если результаты, добываемые наукой, позволяют аккумулировать объективное знание, то применительно к конкретной экзистенции они ложны. Зрение, обоняние, слух - через них реальный мир являет себя человеку. Ответ, который здесь дает наука, интерпретируя показания органов чувств, ложен, утверждает Марсель, ибо он касается не меня: на место моего видения мира он подставляет зрительную функцию объективно контролируемого тела, тела «в глазах других», которое я не воспринимаю как свое.
Здесь - действительно узловой момент всего учения Г. Марселя, того существеннейшего, нового, фундаментального, что он внес в современную философию человека. Не учение о теле «вообще», теле как таковом, а философия собственного тела (Марсель определяет его как экзистенциальную опору всего сущего, как эталон неразрывной связи человека с миром, безусловной причастности). Не только феноменология Мерло-Понти, тонкий анализ Сартром проблем тела развивались затем в этом же русле, но, как справедливо подчеркивает П.Рикёр, у этой темы было на почве французской философии XX века большое будущее.
Связывая подлинность, неотчужденность взаимоотношений человека с окружающим со способом интерпретации им данных органов чувств, экзистенциализм не случайно выдвигает на первый план вопрос об отношении субъекта к собственному телу: как к вещи, «инструменту», или как к живому источнику восприятия, единственной в своем роде возможности интуитивного синтезирования представлений и знаний о мире*. Именно тело вводит в реальное, непосредственное окружение.
Безусловно, внешний мир физически воздействует на человеческий организм, вызывая в нем те или иные изменения; далее, человек, во всей сложности своей психической жизни, действительно может быть рассмотрен и исследован «без остатка» в цепи причинно-следственных отношений, как любой объект, - однако все это можно наблюдать лишь со
В этом же духе говорит о восприятии М. Мерло-Понти: в нем «мы сливаемся воедино с телом, больше нашего осведомленным об этом мире, о целях и способах его синтезирования».Maleau-Ponty M. Phénoménologie de la perception. P., 1945. P. 276.
Г . М . Тавриаян
стороны, глазами других. Между тем человек никогда не тождествен тому, чем он является в глазах других. Всякое наблюдение превращает человека в вещь среди вещей, поэтому научному наблюдению никогда не достигнуть цели, внутренняя жизнь человека всегда будет для науки тайной за семью печатями. Картина душевной жизни индивида может открыться лишь сопереживающей, полной сочувствия интуиции другого человека, потому что только любовь, дорожа проявлениями индивидуального и не стремясь к обладанию, препятствует обращению человека в вещь.
Из этого же протеста рождается, продолжая звучать во всем творчестве Марселя, требование разграничения двух понятий как несовместимых: тела с его психофизиологической жизнью «в глазах других», всецело помещенного вовне, в сфере социального контроля и регулирования*, и тела, как оно воспринимается самим человеком, не абстрактно и не потребительски, а чувственно и целомудренно. Это не «вещь», полностью выявившая себя, доступная наблюдению и регистрации, а тонкая завязь нераскрывшихся возможностей, еще не обнаруживших себя душевных сил...
Вчитываясь в работы Марселя, можно сделать вывод, что основной моделью объекта в этой философии служит именнотело человека, в том обезличенном, дезинкарнированном аспекте, к которому оно сведено в повседневности технизированного бюрократического государства.
Обезличенность, утрата индивидуального чувственного измерения в результате повсеместной технизации, автоматизации жизни общества рассматриваются Марселем всегда, и с годами все больше, как трагедия человека во плоти, как кощунственное преступление против него. Поэтому вовсе не должно казаться парадоксом, что в работе конца шестидесятых годов, в свете религиозного умонастроения, которое он склонен, вслед за Рильке, называть новым орфизмом, он клеймит как «предутренний кошмар» призраки истории -«инквизиторов итехнократов»...**
Сюда Марсель включает науку, современную организацию здравоохранения, медицинского контроля, государственно-полицейскую систему идентификации личности и прочие бюрократические институты современного государства. Здесь он также в определенном отношении предваряет позднейшие исследования, в частности тему стратегии управления индивидами и некоторые другие, разрабатывавшиеся М. Фуко.
·* Marcel G. Pour une sagesse tragique et son au-delà. P., 1968. P. 309.
Уже во 2-й части «Метафизического дневника», в характерной экзистенциалистской постановке вопроса о неповторимости и «неотчуждаемости» индивидуальной организации человека, его духовно-чувственного склада, находит специфическое выражение социальная проблема первостепенной важности: отношение общественного индивида к себе, его самовосприятие как отражение того, насколько данное общество способно отнестись к человеку как к конкретному, чувственному индивиду.
Беспощадная критика вытравливания обществом, низведшим индивида до анонимного носителя требующихся обществу «функций», стирания в нем сугубо индивидуального восприятия мира и самого себя, собственного тела дана Марселем несколько лет спустя - в докладе «Онтологическое таинство и конкретное приближение к нему», прочитанном в 1933 году перед Философским обществом города Марселя и вошедшем в ряд наиболее ярких, программных работ философа.
Экзистенция, как уже отмечалось, выводится Марселем за пределы сферы объективности. Куда же? В какой сфере, в лоне чего она может быть мыслима нами, не подвергаясь опасности деградировать?.. Сфера эта, как вытекает из работ Марселя, последовавших за «Метафизическим дневником», - бытие. Бытие - это укорененность экзистенции, это гарантия ее, в каком-то смысле, абсолютного характера.
Вопрос о бытии в творчестве Марселя не лежит в области философии (это не онтология в традиционном смысле), как не лежит и в области теологии. Бытие, в контексте марселевского творчества, - это основание таких ценностей, как верность, любовь, братство человеческое, основание, в котором отношения смертных как бы заимствуют нечто от вечности. Это надежда, которую обрела экзистенция; прямо говорить о бессмертии души здесь невозможно, экзистенциализм тем самым перестал бы быть самим собой... Бытие в философии Марселя - идеальная сфера интерсубъективности. Печатью бытия отмечена встреча - одно из важнейших понятий. Любовь, преданность выходят здесь за свои конечные пределы...
«Мир, не являющийся миром истории, - он разворачивается в другом измерении... его границ, думаю, мы никогда
Γ.Μ. Тавризян
не сможем определенно очертить; его особенность в том, что он открывается вовне, однако этововне парадоксальным образом не находится ни в каком пространстве. Этот мир испытаний - он и мир подлинного братства, мир, где Антуан Фрамон может воскликнуть: «Любить, значит сказать другому: ты не умрешь, ты не можешь умереть!»* Подобные размышления, которые мы встречаем в последней книге Марселя, «Навстречу какому пробуждению?..», заключают в себе, быть может, самую исчерпывающую характеристику этой своеобразной онтологии интерсубъективности.
Во внутренней эволюции мировоззрения Марселя это как бы преодоление первого, трагического этапа философии экзистенции, когда индивид виделся ему один на один со своим конечным уделом. Это попытка возвращения человеку, современнику, ощущения полноты бытия. Целостность человека не имеет никаких гарантий в современном мире. Но должно быть что-то - то идеальное, куда бы он мог обратить свой взор и вновь обрести свою человечность, почерпнуть в нем надежду. Не случайно бытие для Марселя - это прежде всего «то, что не может обмануть». Возвращаясь, годы спустя, к проблеме онтологии, прозвучавшей в докладе 1933 года, Марсель подтверждает, что намеченные им там конкретныеподступы к бытию находятся в перспективе того, что он в дальнейшем всегда называлинтерсубъективностью. Поэтому было бы неверно определять обращение Марселя к теме бытия как переходот философии экзистенции к онтологической проблематике, как это делает, в частности, в фундаментальном двухтомном исследовании бельгийский томист Роже Труафонтен**. Такого перехода нет. В центре внимания Марселя всегда - существование индивида, тревожный и страстный поиск укорененности надежд, гарантии его собственной ценности в чем-то не поддающемся определению в понятиях, но непреходящем.
Поль Рикёр очень точно замечает, что парадоксальным образом импульсом для возникновения у человека «онтологической потребности», да и самого онтологического вопро-
Антуан Фрамон - действующее лицо в пьесе Марселя «Смерть назавтра» (Le Mort de demain. P., 1931). Запись сделана 13 ноября, в день 23-й годовщины со дня смерти жены Г. Марселя Жаклин Бёгнер. (Marcel G. En chemin, vers quel éveil? P. 193-194.)
* Troi^ontames K. De l"existence à l"être. 2 t. 1953.
ФИЛОСОФСКИЙ ОПЫТ О ЧЕЛОВ.ЕЗЕСК.ОМ ДОСТОИНСТВЕ
са, «таинства»*, в философии Марселя, - является протест против отчужденного, обезличенного существования в современном обществе. Согласно определению самого Марселя: «онтологическая потребность» - это потребность быть. Характерно и то, что этот программный доклад он опубликовал как приложение к своей пьесе «Разбитый мир».
Разумеется, нельзя обойти вниманием тот факт, что появление в творчестве Марселя темы бытия по времени совпадает с чрезвычайно важным моментом его биографии: обращением философа в 1929 году, в возрасте 40 лет, в католичество. Произошло это довольно неожиданно. Отец философа, Анри Марсель, относился к религии весьма скептически, семья матери была протестантской. Габриэль Марсель признает, что собственная его позиция всегда смущала его своей непоследовательностью: относясь с глубоким уважением к вере других, разделяя ее, себя он считал как бы вне ее; и тем не менее такая двойственность могла длиться долгие и долгие годы... Поворот в его жизни был вызван обстоятельством, которому Марсель в своей философии интерсубъективности всегда придавал особое значение, - «встречей», «вестью». В качестве такой вести он воспринял письмо Ф. Мориака (поводом для письма послужил отклик Марселя на «Страдания и счастье христианина» в журнале «La Nouvelle Revue Franзaise»), Мориак обращал к известному философу вопрос: «Но отчего же Вы не среди нас?» Было бы неверно утверждать, вспоминает Марсель, что этот призыв «все перевернул в душе»: напротив, за ним последовали минуты поразительного мира и покоя, мира, который, по словам философа, был «одновременно жизнью и светом». Правда, вслед за тем Марселю пришлось задуматься над конкретным выбором конфессии. Родня его жены была протестантской; с семьей Бёгнер, в которой было несколько пасторов, его
«Таинство» - это слово, как с досадой подчеркивает Марсель, дало в литературе повод ко многим злоупотреблениям. Между тем, отмечает он, это не отсылка к потустороннему: сам он его использовал лишь как обозначение «непроблематизируемого», того, что не может быть проблемой в научном смысле, применительно к чему нет раз и навсегда разработанных методик. Здесь, прежде всего, исключено свойственное науке индифферентное противопоставление субъекта объекту. Постижение таинства коренится в самих условиях человеческого существования. Надо заметить, однако, что смысл этого понятия в контексте религиозной философии Марселя, а точнее, философии глубоко верующего человека, далеко не так однозначен, как это в
==20
связывали самые тесные, самые сердечные узы. Однако колебания Г. Марселя были недолгими. Он остановил свой выбор на католицизме, в котором видел наиболее полное выражение идей христианства и особенно ценил универсалистские тенденции и терпимость. При этом с самого же начала Марсель сохранял дистанцию по отношению к томизму, он всей душой тяготел к августииианству. Его философия обнаруживала и черты, свойственные протестантизму: это прежде всего проблема индивида, отказ от традиции рационалистического обоснования бытия бога и др. Большое влияние, по его собственному признанию, на него оказали греческие отцы церкви, особенно Григорий Нисский; между тем как к схоластической метафизике неотомизма он относился резко отрицательно, часто выступая оппонентом его приверженцев, в частности Жака Маритена. Для Марселя конфессиональные границы в вере не имели никакого значения. Характерно, что, отказавшись в конце сороковых годов от определения «христианский экзистенциалист», он не принимал определения своего учения и как «христианской философии».
При всей значительности момента обращения философа - в свете его жизни и самоощущения, когда глубокая душевная потребность нашла свое воплощение в обращении к церкви, - вряд ли можно говорить о сколько-нибудь существенных изменениях во взглядах философа, к тому времени давно уже сформировавшихся. Эволюция их на протяжении жизни и творчества Марселя несомненна, однако она шла собственным путем, в направлении все большей зрелости, иными словами - способности объять человеческое в социальном масштабе, ко все большей гуманистической ясности, некоему духовному равновесию.
Габриэль Марсель любил подчеркивать, что замысел его пьес, как правило, опережал разработку той же проблематики в его философских работах.
О месте драматургии в жизни Г. Марселя следует сказать особо, поскольку его активнейшая деятельность писателя объясняется не только отличающей представителей французской культуры его поколения многосторонностью интересов и творческих наклонностей, но и самой потребностью его философии, страстно исповедуемых им взглядов, его пред-
==21
философия и какие ее функции сегодня, безусловно, берет на себя искусство.
Из этого, однако, вовсе не следует, что созданный философом театр - это «театр идей». Скорее, ему важна стихия драмы - диалог, речь - как органичнаясфера интерсубъективности, как воплощенная интерсубъективность; это главная тема Марселя, которую в материале самой философии (то есть посредством понятий, «представлений», объективации, упоминаний в третьем лице) нельзя выразить, не исказив. В современную эпоху, утверждает Марсель, всякая теория угрожает интерсубъекгивности. В сциентифицированной философии доля мудрости, связанной с проблемами человеческого существования, повседневной рефлексии по поводу жизни и смерти, взаимоотношений с другими, стала ничтожной. Глубокий метафизический кризис поразил прежде всего отношение человека к себе, к собственному существованию, к близким.
Проблемы общения между людьми - это та область, в которой Марсель со всей убежденностью отдает предпочтение искусству: музыке, театру и, разумеется, прежде всего драматургии. [Драма - это, в противоположность философии, некая спонтанность жизни, проверка психологических коллизий сценической убедительностью, попытка прояснения сложного сплетения человеческих отношений в диалоге, устном выражении, прямой речи, в условиях, где - и это главное, в соответствии с экзистенциальной доктриной Марселя, - каждый выступает как субъект, говорит от своего лица. Стихия драматургии как бы предоставляет логике поступков и чувств развиваться свободно, не встречая помех в каких-либо «внешних» установлениях; она позволяет истине для каждого из нас рождаться в непосредственном соприкосновении с мыслями, опытом, страданиями других,(именно здесь, очевидно, рождаются такие глубокие выводы Марселя, как «никогда не достаточно быть абсолютно правым», многообразные преломления евангельского «не судите»).
По убеждению Марселя, специфика театра позволяет осуществлять то необходимое, чего сейчас не в силах сделать философия: именно театр дает возможность «инсценировать мир, проектировать ситуации, в которых каждый имел бы место, где каждый был бы понят». Этот полицентризм, понимание различных, подчас антагонистичных точек зрения
==22
был ему крайне важен. (Он часто делился впечатлениями детства, когда каждый из близких, фанатично спорящих, казался ему «рабом своей точки зрения».) Здесь совершенно явственна связь с методологическими требованиями его философии: субъект «может быть полноценно мыслим лишь там, где ему предоставляют слово». Это дает Марселю основание подытожить в беседе с П. Рикёром: «Моя философия является экзистенциальной философией в той мере, в какой она является театром, драматургическим созданием».
Именно в драме Марсель получает возможность воплотить в жизнь и другие принципы своей философии. Прежде всего он может здесь отбросить неприемлемую для него "точку зрения из центра", присущую любой философской системе, точку зрения, кажущуюся в своей объективной обоснованности непогрешимой. Такое суждение, по Марселю, подобно вынесению морального приговора безапелляционному заключению. Отсутствие императивного характера, множественность мнений, саморазвитие диалектичной мысли, проходящее в смене опыта, страданий, - все это противоположно теоретической системе с ее отвердевшими понятиями, с ее единым углом зрения. Говоря о задачах своего театра, Марсель подчеркивает: "И главное - осуждение судьи". Именно "не судите" остается для Марселя вершиной христианского учения, непревзойденной высотой моральной мысли вообще.
Человеческая драма живет по собственным законам. Г. Марсель стремился к тому, что имел в виду Шарль Дю Бос в высказывании о романах Л. Толстого: "Так говорила бы сама жизнь, если бы она могла говорить". Сам Марсель находился под глубоким впечатлением русской литературы, которую чрезвычайно высоко ценил, - прежде всего творчества Толстого, Достоевского, Тургенева, Пушкина.
Однако проблема диалога раскрывается не только в драме: исходя из специфики и самой структуры философствования Марселя, один из его учеников и исследователей его творчества, Жозеф Шеню, предлагает для этой философии термин "неосократизм", который и закрепляется за нею в литературе.
Жизнь Г. Марселя была тесно связана с литературой; деятельность на этом поприще в качестве редактора, кон-
==23
зиции активного, глубоко неравнодушного свидетеля своего времени. Литературная жизнь Франции в период между двумя войнами была чрезвычайно интенсивной. Сотрудничая с рядом издательств, прежде всего "Плон" и "Грассе", Марсель общается с выдающимися художниками своей эпохи, с некоторыми из них у него завязывается дружба на многие годы. Андре Мальро и Шарль Дю Бос были в числе первых, кто оценил все значение "Метафизического дневника" для современной философии.
У Шарля Дю Боса Марсель встречался со многими деятелями европейской культуры, с которыми, пишет он, иначе вряд ли бы его свела судьба. Макс Шелер, Якоб Вассерман, Райнер Мария Рильке... Позднее Марсель вспоминал, с каким волнением был выслушан рассказ Рильке о посещении им Ясной Поляны. С 1926 года Марсель, по предложению Дю Боса, возглавил в издательстве "Плон" серию "Зарубежные писатели". Ранее в ней были опубликованы, в частности: переписка Гете и Шиллера, первое собрание сочинений Чехова на французском языке и др. Работе в издательстве он отдался со страстью, сказалась жажда философа открыть французскому читателю шедевры другой ментальности, другой культуры. В основе этого, как отмечает сам Марсель, лежала все та же тяга к интерсубъективности; его удивляет, что пишущие о его философии не видят здесь самой прямой связи... Он обходил английские книжные магазины; прилавки были завалены литературой: он листал с замиранием сердца... то была буквально охота за новинками!
С огромным интересом Марсель прочел тогда книгу фактически неизвестного во Франции Олдоса Хаксли "Контрапункт"; завязалась переписка, возникла дружба, оборвавшаяся лишь со смертью писателя в 1963 году. При посредстве О. Хаксли он знакомится с Д. Лоуренсом и публикует его "Избранные письма". В канун второй мировой войны Марсель пишет предисловие к французскому изданию книгипредостережения голландского историка, антифашиста Йохана Хейзинги "В тени завтрашнего дня. Диагноз духовного недуга нашей эпохи", содействует выходу во Франции лучших творений зарубежной литературы. Он принимает также участие в публикации многих произведений отечественной литературы; в частности, способствует выходу в свет встретившей на своем пути немалые трудности рукописи романа Жоржа Бернаноса "Под солнцем Сатаны" (1926).
==24
В 20-30-е годы Г. Марсель часто встречается с историком Даниэлем Галеви. Сдержанный и замкнутый, в отличие от Шарля Дю Боса, Галеви тем не менее создал в своем прекрасном доме в Сите, собиравшем литераторов, ученых, атмосферу доброжелательности. В известной серии "Les Cahiers verts" Галеви опубликовал две пьесы Марселя, "Чужое сердце" и "Человек Божий". С великолепной проницательностью он поддержал дебюты тех, кто в период между двумя войнами составил славу французской литературы: Ф. Мориака и А. Монтерлана, Ж. Жироду и А. Мальро, А. Шамсона, Ж. Геенно, Л. Гийю и многих других. В этих гостеприимных домах, вспоминает Г. Марсель, сосредоточивалось лучшее, что было тогда в Париже, а может быть, и в Европе...*
К концу второй мировой войны экзистенциалистские девизы, почти аксиоматическое звучание основных положений экзистенциализма обеспечили этой философии совершенно исключительную популярность. Волна экзистенциалистских настроений, связанная с именами Сартра, Камю, Марселя, Мерло-Понти, перекинулась из Франции в ФРГ, Италию, США. Пресса первых послевоенных лет пестрела экзистенциалистскими терминами; понятиями "выбор", "риск", "неподлинное существование", "самообман" охотно оперировали политики, деятели культуры, представители католической церкви.
Сам экзистенциализм претендовал прежде всего на роль мировоззрения, подытожившего и прояснившего путем неподкупной рефлексии, путем самоизобличающего экзистенциального психоанализа индивидуальный опыт сомнений, внутренней борьбы в тяжелейшей ситуации, освобождения от иллюзий. Экзистенциалисты полагали, что осуществляемые ими переосмысление и драматизация этих проблем обеспечат бескомпромиссность и непредвзятость в суждениях любому человеку, какой бы социально-политической ориентации он ни придерживался, придадут его отношению к людям, к эпохе, к себе ту меру жесткого критицизма, которой
он до тех пор был лишен, дезориентированный либеральнобуржуазными идеями прогресса и унаследованными от эпохи Просвещения упованиями на разумную устроенность мира... Индивид должен был усвоить новые внутренние ориентиры, как в прошлом, в эпохи трагических потрясений, усваивали религию, - будучи уверен, что они позволят ему жить интенсивной внутренней жизнью, поставив себя вне зависимости от существующих социальных структур.
Между тем в быстро изменяющихся условиях послевоенной Франции уже к концу первого десятилетия утрачивается острота тематики экзистенциализма, с преобладающими мотивами риска и одинокого противостояния, с гордой безысходностью "пограничных ситуаций"; в условиях набирающего силу делового прагматизма, насущгых политических и общественных задач влияние его идет на убыль, оказываются почти исчерпанными возможности психологического воздействия экзистенциалистских лозунгов и установок. В научной и культурной жизни Франции получают распространение идеи структурализма, возникшего на базе конкретных наук и заявившего о себе в качестве антипода антропологической экзистенциально-личностной ориентации в философии. С другой стороны, функции социального критицизма, антибуржуазный вызов, которые привлекли к экзистенциализму симпатии значительных слоев интеллигенции, взяли на себя в Европе и в США представители Франкфуртской философско-социологической школы.
При этом весьма симптоматично, что на начало 50-х годов приходится интенсивная переориентация самого экзистенциализма на общественно-политическую проблематику, раздвинувшая традиционный круг его тем от тонкой психологической аналитики «человеческого удела» до проблем общества, практики и политики западного мира; однако в конечном счете это лишило философию экзистенции своеобразной "охранительности" прежних, тематически очень четких, замкнутых ее границ и определило распад ее как единого, в самом сущностном, направления. Экзистенциализм слишком политизировался и отошел от тех сугубо философских начал мысли о человеке, которые только и могли сообщить ему характер опыта о человеке как таковом, человеке в мире.
Об экзистенциализме за десятилетия его существования в
качестве объединенного рядом стержневых понятий философского направления было написано больше, чем о любом другом духовном феномене эпохи. Но и после того, как посвященные ему труды перешли в план истории философии, ретроспективы интеллектуальных движений века, экзистенциализм фактически продолжает свое существование, ибо он вошел в плоть и кровь современника, по существу, стал неотъемлемой частью понимания человеком самого себя, человеком, живущим в век мировых войн и планетарного техницизма.
Говоря об экзистенциализме - этом «девятом вале» в тревожной философской рефлексии XX века о человеке, - было бы ошибкой думать, что взлет интереса к экзистенции, к индивидуальной неповторимости и трагизму,осмысленным в категориях Хайдеггера, Сартра, Марселя, Ясперса, - обошел наше общество стороной*. "Оттепель" конца 50-х - начала 60-х годов приоткрыла советскому обществу окно в мир. Именно сюда ворвалось порывистое дыхание экзистенциализма как нового откровения о человеческом существовании. (Точности ради надо напомнить, что и для стран Западной Европы это открытие явилось столь же обновляющим, революционизирующим, а подчас и «скандализирующим»; только это было одним-двумя десятилетиями раньше.) Интерес к экзистенциализму охватил значительные круги интеллигенции. В условиях, слишком хорошо известных, чтобы была необходимость к ним возвращаться, в отечественной литературе этот опыт о человеке в мире (уникальный - и такой всеобщий!) как бы торопливо и страстно прикидывали к себе, примеряли к собственной человеческой ситуации и к отчуждающим общественным структурам, всматривались и давали всмотреться читателю, чтобы затем, волей или неволей, вновь сбросить, отстраненно, словно одежда была с чужого плеча...
Откровением была уже сама возможность заговорить о человеке (пусть путем интерпретации и анализа иноязычных текстов) как о существе неповторимом и конечном, существе, подверженном страданиям, смертном, и при этом, в тревоге и отчаянии, обладающем неотчуждаемой свободой. Взглянув на это сейчас, можно, сквозь все оговорки и цензурное
Мячпги тем именно к этому выводу подталкивают некоторые сегодняш-
штампование, видеть то, что всегда было присуще российскому читателю: "жизненное" прочтение экзистенциализма, его немедленный перевод на язык волнующих всех реалий. Это билось и пульсировало - сквозь споры и запреты, сквозь недомолвки или собственное несогласие, но это занимало в жизни огромное место.
В основе этого приобщения к экзистенциализму лежала исторически уникальная ситуация, опыт, который, при всей его редуцированности, нельзя безболезненно отторгнуть. В последнем случае сейчас пришлось бы начинать с нуля. Да и точно ли - пришлось бы?.. Здесь налицо некий парадокс духовной жизни: можно и в условиях несвободы иметь потребность и тяготение к размышлению над человеческим уделом (condition humaine), но возможно и другое, а именно: в принципиально иных условиях - разнообразия внезапно открывшихся перед обществом перспектив, захваченности широкими возможностями социального действия, реализации прежде недоступных целей - эта потребность может отступить, что и произошло повсеместно, в Западной Европе - уже к концу первого послевоенного десятилетия. Тем более что сам экзистенциализм, история его зарождения, выношенные им нравственные аксиомы, условия его распространения и влияния на умы, - не что иное, как философия свободы в ситуации огромного внешнего давления, будь то оккупация, тоталитаризм, в конечном счете, любые общественные структуры, рассматриваемые как враждебные человеку. (Как верно отмечал в начале 60-х годов исследователь христианского экзистенциализма ГЛ. Сульженко, целью его всегда было "уменьшение влияния общественных отношений на индивидуальную жизнь"*.)
Неудивительно, что наиболее сильный резонанс у современников получили те произведения экзистенциалистской литературы, философской и художественной, в которых резче и пронзительнее звучал этот мотив борьбы и освобождения, одиночества и внутреннего противостояния, безнадежности и героизма; здесь, разумеется, сами собой напрашиваются имена А. Мальро и Ж. П. Сартра, А. Камю и Симоны де Бовуар (достаточно вспомнить надолго ставшее лозунгом
Габриэль Марсель // Философская энциклопедия. Т. 3. M., 1964. С. 319.
==28
сартровское "никогда мы не были так свободны, как при оккупации 1 ").
У читателя нашей страны были и другие, чрезвычайно глубокие, основания воспринимать французский экзистенциализм периода оккупации и Сопротивления в героико-романтическом ореоле. Героизация философии Сопротивления экзистенциалистского типа была более чем естественной для страны, пережившей чудовищные испытания, понесшей огромные потери, вынесшей тяжесть мировой войны на своих плечах, знавшей пафос борьбы и самоотречения людей, готовность "стоять до последнего".
Возможно, ни для какой другой философской и читательской среды эмоциональное напряжение понятий "ситуация", "другой", сартровского "я буду без иллюзий и буду делать, что смогу" не было так велико, а сами понятия не были в такой мере квинтэссенцией реальной жизни. Столь же острый нравственный и политический смысл вычитывался даже в таких далеких от повседневности спекулятивных категориях, как "бытие", "сущность", "ничто" и других, самых распространенных, самых отвлеченных терминах философии. Лишь позднее, когда улеглись страсти, появилось стремление найти этому интеллектуальному направлению место в истории философии, четче различить в нем традицию и истоки, охарактеризовать его как школу, увидеть в нем "строгую науку". Впрочем, эта же тенденция наблюдалась на Западе.
Вряд ли Марсель так демонстративно отрекся бы от экзистенциализма, если бы это направление ассоциировалось исключительно с именами К. Ясперса, которого Марсель высоко ценил, с которым издавна был во многом солидарен, и М. Хайдеггера, философскую близость с которым, особенно в зрелые годы, не только ощущал, но и, как это видно из публикуемых текстов, охотно подчеркивал, а не с именем Ж.-П. Сартра. Между тем Сартр как бы взял на себя всю полноту ответственности за экзистенциалистский "вызов", олицетворяя в глазах послевоенного поколения французской интеллигенции (мало знакомого с экзистенциализмом как духовным движением, имеющим глубокие корни в прошлом, а также богатую историю в период между двумя мировыми войнами в Германии и в самой Франции) то революционное. что несла в себе эта философия.
Однако было бы неверно думать, что сартровский страстный поиск, его проект экзистенциальной феноменологии были изначально чужды Марселю - человеку, впервые придавшему слову "экзистенция" во французском словаре всю остроту и напряженность его современного звучания. Марсель высоко оценил феноменологические опыты Сартра. Так, он утверждал, что сартровская категория «mauvaise foi» ("нечистая совесть", "самообман"), его анализ «взгляда со стороны» (le regard d"autrui), экзистенции, увиденной "другим", прочно войдут в современную философию человека. Связь между двумя мыслителями была более существенной, чем это представляется сейчас. Сартр бывал на марселевских «пятницах» на улице Турнон: в частности, он нанес Марселю визит после выхода в свет трактата "Бытие и ничто" в 1943 году. Ранее, наблюдая тонкий психологический дар Сартра, Марсель предложил его вниманию мотив "visqueux" (букв.: липкий, вязкий), играющий важную роль в творчестве Сартра, тему ситуаций и др. Безусловно, марселевский анализ тела и особенно отчуждающего отношения к нему как к вещи имел для творчества Сартра особое значение: "овеществленному" телу посвящены многие страницы трактата "Бытие и ничто"*.
Что было совершенно неприемлемо для Марселя из идей Сартра? Богооставленность человека, его одиночество во Вселенной, обреченность на выбор, не имеющий никаких опор в духовном мире, развенчание "преднаходимых" ценностей, абсолютный, негативный характер свободы, восприятие "другого" как неизменно враждебного начала. Разумеет-
В предисловии к очерку Г. Марселя "Экзистенция и свобода человека у Ж.-П. Сартра" (написан в 1946 году, переиздан отдельной книгой в 1981) философ и журналист Д. Гюисман, сам участник марселевских "пятниц", подчеркивает, что именно сюжетам Марселя, его постановке проблем Сартр в значительной мере обязан своим особым интересом к проблематике отчужденного тела, "обладания" - что нашло свое отражение во многих известных пассажах трактата "Бытие и ничто". Однако, отмечает Д. Гюисман, Сартр, ссылающийся на Ж. Валя, К. Ясперса, М. Хайдеггера, никогда не связывает своего творчества с именем своего французского предшественника. (См. Marcel G. L"Existence et la liberté humaine chez J.-P. Sartre. P., 1981. P. 3) Здесь можно привести и следующую запись из воспоминаний Г. Марселя: "Я много размышлял над понятиемсцены (в литературе и в истории. -Г. Т.) и, еще более непосредственно, над понятиемситуации. Позже, в ходе одной из сердечных, хотя и немногочисленных, наших встреч Сартр говорил мне, что все значение понятия ситуации, центрального также у Ясперса, ему открылось именно в моей философии."(Marcel G . Enchemin,versquelйveil?P. 109.)
==30
ся, атеистический, богоборческий пафос. В послевоенные годы Марсель упрекает Сартра в политическом фанатизме, партийной предвзятости, в склонности к радикализму*. "V Сартра есть перспектива черпать в дальнейшем учеников в рядах дезориентированной, анархиствующей молодежи..." Это замечание было брошено Марселем в 1946 году - за двадцать два года до майского кризиса 1968 года**. Он не раз выступает в печати с резкой критикой взглядов Сартра, в целях предотвращения их "нигилистического воздействия на умы", однако это не мешает ему воздавать должное "изумительному интеллекту" Сартра, многие его анализы он по-прежнему находит "великолепными", "исключительными".
В 1966 году, как бы подводя черту под развитием экзистенциализма перед лицом набиравших силу структурализма, социологизации гуманитарного знания, мощной волны технократизма, умный, проницательный аналитик технократической ориентации Мишель Крозье писал: «Основной удар, который эти духовные (экзистенциалистские. - Г.Т.) направления сознательно стремились нанести старому миру, был задуман в плане философии и морали. Его целью было подорвать основы убогого позитивизма французского общества. Ожесточение экзистенциалистов, их красноречие нанесли сокрушительный удар... Однако по сути все это интеллектуальное движение базируется на отдельном индивиде»***.
Наверное, это самая точная, самая справедливая оценка исторической роли экзистенциализма во Франции. И, однако, разве сейчас, когда и структурализм, и прочие течения, равно обращавшиеся с "человеческим фактором" как со статистической величиной, и глобальные социальные утопии технократии уже позади, - разве не встает сейчас, к концу XX столетия, вопрос о том, как важно, чтобы центром притяжения духовных устремлений, философской мысли вновь был именно индивид?..
Как пишет Г. Марсель, это послужило основной причиной разрыва. В послевоенные годы, утверждает он, экзистенциализм определенного толка во Франции повинен в попрании норм справедливости при "чистках", в содействии расколу общества.
· См. Marcel G. L"Existence et la liberté humaine chez J.-P. Sartre. P. 5.
··· Croyer M. La révolution culturelle // "Preuves". 1966. ¹ 179. P. 10-11.
Биография и творчество Габриэля Марселя... Невозможно не заметить, что все в этой жизни было реализацией "интерсубъективности", питая философское размышление; на этом опыте возводилось здание метафизики, на которое жизнь постоянно отбрасывала свои блики, свою тень. Г. Марсель не был бы философом экзистенции, каким он был и оставался (ибо философия экзистенции и экзистенциализм совпадают далеко не полностью), если бы темажизни не была для него - и в метафизических построениях, и в обращении памяти к событиям и впечатлениям, которыми был отмечен его собственный жизненный путь, - прикосновением к таинству и одновременно средоточием важнейших проблем философии.
И здесь ничего не разграничить. "Дневники" его - это только философия, это его важнейший метафизический труд: из признаков дневникового "жанра" здесь можно отметить разве что хронологическую размеченность по датам; философские же сочинения и лекции - это, напротив, постоянное обращение к собственному экзистенциальному опыту. Поиск идет по многим направлениям: главы под названием "Жизнь", "Моя жизнь", "Смысл моей жизни: идентичность и глубина" в теоретических трудах - и мемуары; опыты (по мере возможного, допустимого) обобщения* - и осторожная, бережная попытка высказатьнеобъективируемое, неповторимое. Жизнь, подчеркивает Марсель в фундаментальной своей философской работе, ускользает от меня, она ускользает от себя, через все поры...**
На склоне лет, собравшись опубликовать воспоминания, Г. Марсель пишет: обращение к собственной жизни, рассказ о ней - задача чрезвычайно непростая, так как это не только биографическое повествование; это, гораздо скорее, "правда и поэтический вымысел", по Гете. И все же для самого Марселя, для которого событие, йvйnement***, всегда было
Хотя это не обобщение в плане научной объективности, однако это опыт экзистенциальной типологии: типология тела как собственного; типология жизни каксобственной.
·· Marcel G. Le Mystère de l"être. Vol. I. Réflexion et mystère. P., 1951. P. 187.
*· не со-бытие, co-esse, что как раз чрезвычайно характерно для экзистенциализма, а именно событие, «происшествие». «Я философ происшест-
==32
важнейшей категорией философии, представление собственной жизни не есть поле деятельности художественного воображения. По убеждению Марселя, здесь для автора существует двоякого рода опасность: либо перейти на дневниковую форму или заняться хронологическим воспроизведением былого, либо, чтобы избавить читателя от скучных для него подробностей, прибегнуть к увлекающему на ложный путь обобщению, стремиться создать целостную картину того, что не было целостным, как не было и хаосом разрозненных событий. Скорее это - вспыхивающие здесь и там всполохи переживаний прошлого, по Прусту. Влияние Пруста - огромно. Марсель вспоминает: "Единственный из французских писателей XX столетия, он мне казался старшим братом; я не мог бы сказать того же ни об одном из философов. А Бергсон, спросите вы? Нет, никак не Бергсон. Я не замечал в нем той чувствительности к человеческой драме во всех ее формах, волнующие свидетельства которой мы находим во многих местах романа Пруста..."*
Для экзистенциалистов, как и для А. Бергсона, как и для М. Пруста, отношение человека к собственному жизненному времени является важнейшей проблемой (в частности, измерение будущего, человек как проект у Сартра). Личностное отношение человека к своему жизненному времени - это тоже решительная попытка противостоять нивелирующему, бездуховному функционализму общества.
Для Марселя здесь главное - проблема самоидентификации человека. Один из важнейших вопросов, отмечает он, знать, до какой степени и в каких пределах мое отношение с собственным прошлым может быть воспроизведено. Каждый человек - носитель определенного прошлого, личного опыта, однако этот опыт может деградировать до готовых, ясных ответов на вопросы анкет; вот свидетельство того, насколько этот опыт уже отчужден и существует отдельно от человека. Мы не в равной степени являемся нашим прошлым.
Итак, встает проблема множественности "я". «Я» - это не только тот, кем я являюсь сегодня, но и тот, кем я был некогда. Нет ли здесь угрозы полного отрицания тождества личности? Для Марселя выход из этого лабиринта изменчивости, нетождественности себе -другой, опосредующая роль
Marcel G. En chemin, vers quel éveil? P. 20.
другого в нашей жизни. При философской реконструкции жизни самое трудное - преодолеть противоположностьпоследовательного (successif) иабстрактного: того, что есть в ней непрерывно-изменчивого, и того, что можно выделить, что каким-то образом граничит с непреходящим. Способ преодоления, трансцендирования оппозиции текучего, последовательного, и абстрактного - внадвременном, которое есть в некотором роде сама глубина времени; свойственное жизни измерениеглубины, пишет Марсель, возникает там, где будущее как бы смыкается с самым отдаленным прошлым. Когда смешиваются "тогда" и "теперь", это не может называться иначе как вечностью, tiefe Ewigkeit, говоря словами Ницше; это вечное возвращение. Вообще же человек - как бы пожизненный изгнанник по отношению к тому всеобъемлющему, остро ощущаемому им единству, каким для него выступает его детство (независимо от того, каким оно в действительности было).
Очевидна тенденция философа одухотворить, смягчить самую тяжелую ситуацию рефлексией, обращенной на себя в прошлом, неким очеловечивающим движением мысли вспять, осознанием повторяемости, умудренностью. Все это должно побуждать нас к пониманию, терпимости... Однако перед двумя явлениями действительности, настаивает Марсель, философ должен занимать воинствующую позицию: перед лицом расизма и религиозного фанатизма.
Мысль, не отрывающая будущее от прошлого, то есть способная охватить человеческий опыт в единстве (такой способностью характеризуется рефлексия второй ступени), - это и размежевание с экзистенциалистской установкой, выраженной в сартровской концепции "проекта". В последней истинно значимым для человека признаетсятолько будущее: движение - только вперед, уже предшествующее мгновение - это небытие. В свете этого смерть подобна неожиданно отказавшему механизму, это лишь состояние непригодности для будущего. Такая философия, при всем нонконформизме Сартра, все же несомненно "поддается" на прагматический вызов общества: будучи переложена на язык "непримиримого" экзистенциализма, смерть стала определяться как "неудача", как фиаско. Так, по Сартру, смерть как окончательный крах завершает экзистенциальную драму человека.
С точки зрения Г.Марселя, абсолютно неверно, что человек - это преимущественно "проект": будущее само по себе
==34
не может быть глубоким, потому что оно - новое, в новом еще нет глубины.
Необходимо отметить, что Г. Марсель, единственный среди философов экзистенции, выделил как основной, истинный факт трагизма человеческой участи смерть ближнего, а не мысленное предвосхищение человеком собственного конца, не сознание собственной смертности, пожизненно ему сопутствующее. Хавдеггеровское zum Tode sein (как и Freiheit zum Tode Ницше) навсегда осталось в глазах Марселя искажением смысла существования. Для Марселя проблема жизни и смерти встает во всем своем значении прежде всего по отношению к существованию дорогого человека. Отсюда рождается это проникновенное, ни с чем не сравнимое в своей психологической достоверности определение: «Любить - значит говорить другому: ты не умрешь...»
Уже в первой половине жизни Марселем пройден путь от угловато-жесткого, беспощадного экзистенциалистского девиза "явись людям и себе тем, кто ты есть"* до зрелого и человеколюбивого порога, на котором индивид обращается к Богу, страдая и при этом глубоко ощущая собственное достоинство: "Ты один знаешь, кем я являюсь - u кем я мог бы быть, став самим собой!.."
Надо сказать, что при всем том, что Марсель как аналитик экзистенции склонен доискиваться самых потаенных пружин человеческого поведения, резко высвечивая (особенно в пьесах) темные углы психики, импульсы бессознательного, аномалии, склонен постоянно подчеркивать душевную раздвоенность индивида - вера его во внутреннее достоинство человека поразительна: не случайно в разговоре с П. Рикёром он выделяет в человеческом существе как главную черту
способность к святости...
Разрыв между наличным существованием субъекта и его нереализованным бытием (это не традиционное моралистское или религиозное противопоставление подлинного бытия неподлинному, но, скорее противопоставление нереализованных возможностей человека тому, во что фактически, по тем или иным причинам, вылилась его жизнь: противоположность этому фактическому, несложившемуся сущест-
Эпиграф к одной из ранних пьес Г. Марселя, "Человек Божий" (Marcel G. Un homme de Dieu. P., 1923. "Les Cahieis verts").
вованию - он сам, каков он есть) - этопространство между тем, чем человек является и чем он был бы, став самим собой, - и есть та проблемная сфера, к которой с наибольшей полнотой и адекватностью применимы важнейшие категории философии Марселя. Это прежде всего:онтологическая потребность (l"exigence ontologique), определяемая философом как потребность быть; коренящаяся в индивидуальном опытетрансценденция; рефлексия второй ступени, как соответствующая жизни на ее более высоком уровне*;сосредоточенность (recueillement), в свете которой перед человеком предстают прежде всего его собственные мысли и поступки. В окружающей действительности причин для такого разрыва великое множество. Приемы дегуманизации, отчуждения (les techniques d"avilissement) бесчисленны, от тоталитаристского гнета до анонимного давления бюрократических структур**.
Через все сочинения Г. Марселя подспудно проходит мысль: с человека нельзя спрашивать за все. В статье "Упадок здравого смысла" мы читаем слова, всегда остающиеся актуальными: "Всякая бюрократия сопровождается инквизиторской деятельностью. Эта абсурдная ситуация имеет тяжкие моральные последствия: каждый гражданин выступает одновременно и как агент государства, и как правонарушитель. И никакая официальная этика ничего не меняет в этом диком положении вещей; заставлять людей жить в ненормальных условиях - значит разлагать их морально"***.
Как бы то ни было, благодаря внутренней сосредоточенности, мобилизации душевных ресурсов, пишет Марсель, я занимаю определенную позицию по отношению к собственной жизни. Я как бы выскальзываю из нее. Высвободившись, я уношу с собой все, чем я являюсь и чем жизнь моя, возможно, не была****.
Марсель далек от концепций мышления, сознания как стороннего наблюдателя над жизнью субъекта; рефлексия, пишет он, «есть определенная форма жизни, или, глубже, она, без сомнения, есть способ, каким жизнь переходит от одного уровня к другому». Marcel G. Le Mystиre de l"кtre. I. P. 97).
* Этим проблемам, которых Марсель касается в большинстве своих работ, специально посвящена книга "Люди против человеческого".(Marcel G. Les hommes contre l"humain. P., 1955).
** Marcel G. Le crépuscule du sens commun // Marcel G. Dimension Florestan. P., 1958. P. 47.
··· См. наст. изд. С. 85.
==36
Recueillement - это как бы принцип собирания воедино внутреннего опыта. Марсель размежевывается с тем диалектическим моментом возвращения к себе, или Fьr-sich-sein, которое "заключено в сердце немецкого идеализма"; внутренне собраться не означает быть-для-себя, напротив: пусть это парадокс, но это "я", в которое я возвращаюсь, тем самым перестает быть "для себя". Оно как бы обретает заново собственную человечность, открытость, расположенность (disponibilitй) к ближнему, Богу, любому человеку. В какомто смысле recueillement близко обращению; это, по Марселю, психологическая ситуация Нехлюдова и даже Раскольникова. Вопрос, адресованный самому себе, обращение к собственной душе является предпосылкой всякого истинного познания, всякого нравственного действия, поскольку то и другое требует избавления от пристрастий, предубеждения. Речь идет о душевном состоянии прозревшего человека, когда, по-новому взглянув на сложившуюся мучительную, нестерпимую ситуацию, он тем не менее признает «невозможность вынести в адрес тех, кто казался виновным, простое суждение, безапелляционный приговор, до этой минуты казавшиеся закономерными»*.
Постоянно ощущая острейшую болевую точку действительности, Г. Марсель как бы возводит, надстраивает всю философскую систему над своим «экзистенциальным обоснованием человеческого достоинства*. Надо сказать, что при этом он неохотно прибегает к слову «личность». Хотя персонализм Э. Мунье ему близок, а в учении У. Хокинга Марсель видит одно из самых светлых и благородных явлений современной философской мысли, считая влияние Хокинга, а затем и его дружбу чрезвычайно значительными фактами своей жизни, тем не менее сам термин, по его признанию, ассоциируется у него с одноименным сочинением Ш. Ренувье. Впрочем, уже из самой специфики философии экзистенции Марселя очевидно, почему слову «личность» он предпочитает слово «индивид».
Г. Марсель признает первостепенную роль в обосновании высокого достоинства личности за этикой Канта; не случайно в беседе с П. Рикёром он высказывает мысль о возрождении философии при опоре на многие положения Кантова
Marcel G. Le Mystère de l"être. 1. P. 147.
учения. Хотя, разумеется, при совершенно ином восприятии взаимоотношений индивида и общества сегодня Марселю кажется неприемлемым формализм этики Канта; тем не менее, подчеркивает философ, он вовсе не оспаривает того факта, что в плане рационалистической этики этот формализм, к тому же неизбежный, имеет положительное значение.
Что же касается Марселя, то, по его собственному признанию, разработка рационалистической этики отнюдь не входила в его задачи.
О какой согласованности нравственных усилий, о какой общеобязательности нравственного поведения индивидов могла идти речь, если условия существования человека были иррациональны, непредвидимы? Вспомним, с чего начиналась сама философия экзистенции, как зарождалась трагически вопрошающая экзистенциальная мысль*. В современном бесприютном мире, когда, по выражению Марселя, рушатся декорации истории и одновременно с ними - весь наш запас знаний и представлений о мире, в которых абсурдному, бессмысленному места не было предусмотрено - человек ощутил себя прежде всего как крик боли, conscience exclamative, перед лицом вещей, ставших неузнаваемыми. Для передачи этого смятенного состояния Марсель часто цитирует строки П. Клоделя, именно в десятые - двадцатые годы оказавшего на будущего философа-экзистенциалиста очень большое влияние: Вот я, Неразумный, непосвященный, Новоявленный человек лицом к лицу с незнакомыми вещами, ... Мне ничто неведомо и ничто не подвластно. Что говорить? что делать?
Как мне быть с этими свисающими руками, с ногами, Которыми я влеком словно ночными грезами?**
Это - начало века, годы первой мировой войны. Затем - почти четверть века строительства цивилизации, целая эпоха в художественной культуре. И вновь - трагедия многомил-
Как в "Золотых строфах" Жерара де Нерваля, любимого орфического поэта Марселя: "И - как рождающийся стаз под покровом век - Чистая мысль зреет под корою корней" {Nerval G. de. Oeuvres. P., 1958. P. 76.), невольно вызывающих в памяти образы О. Редона. Это - l"йtat brut экзистенции по Марселю и по Сартру, состояние "первичной" данности, обнаженной, как кусок корневища, выбившегося из иссушенной, растрескавшейся почвы...
·· Claudel P. Théâtre. Sér. I. Tête d"or. P., 1911, P. 11.
лионных жертв, разрушений, глубочайший в истории кризис. Самым большим потрясением, свидетельствует Марсель в своих воспоминаниях, было открытие факта существования нацистских концлагерей. До 1945 года радио Великобритании сообщало о депортации людей, однако, пишет Марсель, лишь после войны стали известны истинные масштабы этого коллективного преступления, одного из самых ужасающих, какие знала история*. «Мученики Дахау, Бухенвальда стали современниками Христа. Мало сказать, что эти события словно не разделены двумя тысячелетиями... "Словно" здесь неуместно. Гораздо правильнее было бы сказать, что историческая декорация, пространственно-временные обстоятельства, на фоне которых разыгрывается наша индивидуальная драма и которые сообщают последней ее внешние атрибуты - трагически обрушилась»**. При всей вневременности, надвременности страшных катаклизмов Марсель выделяет особые черты современной эпохи, "технологию обесчеловечивания", имеющую целью вызвать у жертвы отвращение к себе. Это «грех, который искупить невозможно, - акт намеренного унижения человеческого существа»***. Именно эти страшные явления действительности, пишет Марсель, подвели его к тому, чтобы воспроизвести в экзистенциальном регистре одну из фундаментальнейших тем Кантовой этики - тему высокого достоинства личности****.
Философские тексты Марселя обладают некой парадоксальной особенностью: при чтении их часто складывается впечатление о мысли, витающей в высях почти мистической отрешенности (обилие примеров мало что в этом меняет, они - из области психологических драм, и в этом смысле они вне времени, они - неисторичны); и между тем все самые глубокие положения марселевской философии документально перекликаются с событиями, чертами эпохи, они исторически конкретны. Философ, как кажется, вне политики, во всяком случае, он не следует за быстротекущими событиями, но он очень точен в определенииглобальных феноменов эпохи. Этим, по-видимому, объясняется то обстоятельство, что высказанные им мысли - в свое время
Marcel G. En chemin, vers quel éveil? P. 197.
·* Цкт. по кн.: Troisfonlaines К . De l"existence à l"être. T. II. P. 262.
·*· Marcel G. En chemin, vers quel éveil? P. 197.
·**· Ibid. P. 197-198.
чрезвычайно далекие от общественной идейной конъюнктуры, нисколько не отвечавшие ожиданиям большинства, казавшиеся безусловно несовременными, запоздалыми, - по прошествии времени обнаружили свою поразительную насыщенность духовной субстанцией эпохи.
К охваченным философией экзистенциализма трагедиям: мировым войнам (абсурд бойни и человеческой брошенное ти) и, уже в мирных условиях, гипертехницизму, бескровно стирающему человеческое и к тому же грозящему гибелью планете, - Марсель прибавляет, включает сюда, еще одну. Вряд ли кто-либо еще из философов XX века уделил ей столько внимания, признал в ней одну из важнейших тем философии: это проблема беженцев и раздражающего, как подчеркивает Марсель, и с ним нельзя не согласиться, эвфемизма "вынужденные переселенцы". Человек из барака: Марсель писал о нем после второй мировой войны; его появление было ее очевидным следствием. Однако этому понятию в его философии придана огромная сила обобщения, - он словно предвидит разрастание этой трагедии к концу века, то страшное наследие, то бремя и горе, с которым мир переходит в грядущее тысячелетие. Как философ объясняет этот трагический феномен - это другой вопрос*. Никак не объясняет, не считает возможным объяснить. "Метафизический кризис". Если перевести это выражение на доступный язык, то это
В этом смысле вызывает недоумение конец первой части книги 1951 года "Человек, ставший проблемой"... Приветствовать жертву, приносимую другим, - в этом есть какая-то странная нота, совершенно чуждая характеру религиозности автора. Однако само это произведение очень показательно, поскольку здесь Марсель всячески обосновывает то положение, которому придает первостепенное значение: человек не может быть безболезненно оторван от своей среды, не только от близких, но и от дома, от привычных предметов, пейзажа... То, что человек в мире должен быть «у себя» (chez soi) - эта важнейшая мысль доказывалась Марселем уже в ранних работах, посвященных, казалось бы, сугубо гносеологическим проблемам. Смысл жизни индивида задан тем, с чем мы связаны теснейшими узами чувства и привычек. Здесь стоит сослаться на Рильке, который был Марселю чрезвычайно близок.
Нам остается, быть может, Дерево там, над обрывом, которое мы ежедневно
Видели бы; остается дорога вчерашнего дня
Да прихотливая верность упрямой привычки...
(Рильке P.M. Первая Дуинская элегия / Пер. В. Микушевича //Рильке P.M. Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи. М-, 1971. С. 348.)
Г.М. Тавриаян
означает следующее: с человечеством что-то происходит, что-то тяжелейшее, уму не постижимое. Впрочем, само слово "метафизический" в учении Марселя имеет мало общего с отвлеченной категорией, оно пронизано человеческим. Метафизический поиск - это "попытка больного, мечущегося в лихорадке, найти такое положение тела, которое причиняло бы меньше страданий"*.
«Барачный человек»... Этот феномен - продукт нашей эпохи, новый, беспрецедентный в своей массовости, возвращение абсурда и хаоса.
Отношение Г. Марселя к католицизму на протяжении всей жизни остается сложным. Он не уверен в способности религии в настоящем прививать человеку пиетет к бытию, к живому, к разуму, противостоять кризисным тенденциям эпохи. Христианство, утверждает Марсель, делая акцент на отречении от мира и аскетизме, на сверхъестественном, скорее, нагнетает ощущение опустошенности мира, еще более способствуя и так быстро происходящей десакрализации человеческого универсума**.
В 1971 году, на последней странице своих мемуаров, он пишет: "Если я остаюсь христианином, то это, вопреки всему, потому что я примыкаю к таинству причастия Страждущих, восходящему к жизни и личности Христа"***.
Жизнь Иисуса, Воскресение, благодать - к этому устремлена глубочайшая вера философа. При этом Марсель предельно честен с собою; возможно, говорит он, - хотя мысль об этом приводит в отчаяние, - что когда-нибудь в будущем будут найдены источники, неопровержимо свидетельствующие о том, что не было факта Воскресения Христа; на чем тогда может зиждиться вера, которую мы ощущаем почти физически?..**** Как бы то ни было, Марсель верит страстно, верит не в догму - в живого и воскресшего Христа. Между Иисусом и человеком есть теснейшая связь - это молитва и, как "ответ на призыв", - явление благодати. Речь никогда не идет о доказательствах "объективного" существования Бога: экзистенциальной вере абсолютно чуждо подобное вопро-
Marcel G. Le Mystère de l"être. I. P.
·* Marcel G. Homo viator. Une métaphysique de l"espérance. P., P. 340.
·* Marcel G. En chemin, veis quel éveil? P. 293.·*·· Ibid. P. 217.
шание. Бог - это "неизреченное присутствие"; верующий не "зрит" Бога, но, скорее, постоянно чувствует себя видимым, открытым, стоящим в просвете божественного взгляда, - так, как человек у Хайдеггера стоит "в просвете бытия".
Главное в христианстве - вера в личность Христа и в основополагающие истины, восходящие к Воплощению.
Так же и в отношении человека - главным для Марселя является его инкарнированность, священный характер последней, с чем связана абсолютная недопустимость превращения тела в «объект».
Вера в человека так сильна, а власть теологических догм столь малозначительна, что грань между отношением к Богу и отношением к человеку и его миру подчас оказывается у Марселя чрезвычайно тонкой, создавая атмосферу их поразительной близости. Разумеется, это не остается незамеченным некоторыми представителями католицизма. Так, Сара д"Альберти замечает: «Если, как это делает Г. Марсель, мы утвердим между вещью, личностью и Богом отношения "присутствия" (prйsence), то законно будет спросить: где же грань между "присутствием" физического мира и "присутствием" Бога? Нет ли здесь риска впасть в пантеизм? Не грозит ли нам опасность поместить в единую перспективу вещь, личность и Бога?»*
Сара д"Альберти здесь прямо касается сути марселевского учения. Если после отхода от экзистенциализма Марсель согласился с определением его философии как неосократизма, то позже он все больше связывает свои надежды со своего рода "новым орфизмом" как спасительным мироощущением близкого будущего... Так, мир человека от изначально экзистенциальной сферы страдания, воплощавшейся в иудеохристианском массиве образов марселевской философии, на каком-то этапе превращается в прекрасно организованный чувственный космос античности, насыщается античными образами (в этот период особенно отчетливо обнаруживается близость Марселя Хайдеггеру, их объединяет тяготение к поэтическому космосу), чтобы затем как-то неуловимо распространиться вширь, повсеместно находя себе воплощение в опосредствованной новейшей поэзией, прежде всего поэзией P.M. Рильке, "орфической" атмосфере. Но в отличие от Хайдеггера, для философии Марселя это вовсе не означает
D"Albert! S. Moment! dell"esistenzialismo europeo. Palermo, 1972, P. 79.
трансцендирования сферы нравственного, выхода за ее пределы. Напротив, орфизм как одухотворение природы связан здесь с универсальной формой нравственности, с благоговением перед жизнью, живым, состраданием к живому.
Еще в 1944 году Г. Марсель выступил с двумя большими лекциями о P.M. Рильке, проникнутыми глубочайшим интересом к творчеству и мироощущению поэта; они вошли в книгу "Homo viator".
Безусловно, проблемы бессмертия души в тонкой интерпретации Рильке всецело захватили философа.
В гармоническом строе рилькеанских ангелов, для которых, видимые с их непостижимых высот, существовали равно, неразличимо, живущие и давно ушедшие из "нашего" мира, для которых "вечный поток омывал оба царства". Марсель находил новые градации трагической дилеммы жизни и смерти - уже чуть приглушенного звучания, пронизанные орфическим предчувствием метаморфоз. Здесь оставалось уже меньше места неверию и обреченности, все как бы было погружено в задумчивые сумерки, в которых когда-нибудь забрезжит рассвет. Одновременно это было так же далеко от традиционной версии "загробной жизни", недопустимой теологической прямолинейности, опровергаемой философским разумом надежды. Все погружалось в зыбкий сумрак неопределенности, небезнадежности, превращенья - метаморфоз "стороны жизни, обращенной не к нам..."
От христианства к орфизму - так обозначает Марсель путь Рильке.
На всех этапах творчества Рильке - особенно в зрелые годы - философская проблема космоса, онтологического окружения необходимо порождает, "выделяет из себя" проблему культуры. С огромным напряжением в поэзии Рильке выражена необходимость (в условиях, как сказал бы Хайдеггер, тайно зреющей в бытии и для бытия опасности) вернуть, "высказать", воплотить вновь вещи в окружающем человека мире. Это - еще одна грань рилькеанского творчества, обусловившая столь глубокое и устойчивое влияние Рильке на французского философа: отношение к прошлому, человек перед лицом веками создававшейся цивилизации, перед исчезающим миром образов... "Образ" - это в настоящее время то, что остается от вещей, сносимых ворвавшимся в жизнь вихрем технического прогресса. Марселевской крити-
ке абстрактного, анонимного характера наращивания технической мощи полностью созвучны строки Рильке: Дух времени строит себе хранилища силы, Бесформенным напряжением, извлекаемым отовсюду...* Само заглавие лекций, "Свидетель духовного", выражает давний марселевский идеал позиции человека перед лицом веками творимой цивилизации, частично, но Рильке, уже "незримой", недоступной восприятию.
Итак, христианский экзистенциализм - неосократизм - новый орфизм... Столь различны названия, а между тем отношение философа к миру в самом сокровенном определилось очень давно. Сам он в последние годы, как свидетельствует участник марселевских «пятниц» Ж. Боэссе, охотно признавал себя "внеконфессиональным" философом**. Во что верит Марсель?.. Прежде всего в Бога в душе, в сакральность человеческой экзистенции, в священный характер всего живого.
Безусловно, эволюция здесь имеет место: ведь творческий путь философа охватывает многие десятилетия; но прежде всего ширятся горизонты обозреваемого. Сам Марсель говорит о все большей, с годами, восприимчивости к истории: если раньше для него были важны события, конкретные исторические факторы, способные пролить свет на современность, то теперь предметом величайшего интереса стала сама история в ее глубине; он отмечает это чувство исторической глубины у Д. Галеви, всегда его восхищавшее. "Будь у меня сейчас возможность систематических занятий, я бы обратился к истории", - признается он***. Это возрождение интереса к истории Марсель связывает с "гораздо более фундаментальной интенцией", которую, по его мнению, достаточно точно выражает понятие "гуманизм"****, классический, традиционный термин, который в экзистенциалистскую эпоху казался устаревшим, скомпрометированным, вызывал глубокое недоверие. Взгляд Марселя на гуманизм изменился коренным образом после второй мировой войны, когда стала очевидной вся хрупкость цивилизации и опасность нигилизма.
Рильке P.M. Седьмая Дуинская элегия / Пер. В. Микушевича //Рильке P.M. Ворпсведе. Опост Роден. Письма. Стихи. М., 1971. С. 348.·· См.: "Citй" (Revue de la Nouvelle Citoyennetй).N. 14. 1986. P. 4.
** Marcel G. En chemin, veis quel éveil? P. 195. ···* Marcel G. En chemin, veis quel éveil? P. 196.
С конца сороковых годов к Марселю приходит широкое признание со стороны философских кругов за рубежом. Одно за другим следуют приглашения выступить с лекциями. Он выступает в крупнейших культурных центрах западного мира и одновременно посещает те уголки земного шара, где, как он писал, например, о некоторых районах Южной Америки, девственная природа словно проникнута испарениями исчезнувших цивилизаций... Реализуется невысказанная, быть может, с самого начала, однако внутренне всегда присутствовавшая установка, - особенно явственная в тяготении, сближении с рилькеанской интуицией прекрасного, создававшегося человеческими руками, установка, о которой Марсель писал: «я испытываю неодолимый порыв выйти за тесные рамки мира, в котором живу»*.
В 1949 и 1950 гг. Марсель читает курсы лекций в Абердинском университете в Великобритании, составившие затем известный двухтомник "Таинство бытия". Не меньшим событием стал курс, с которым Марсель выступил на "Джеймсовских чтениях" в Гарвардском университете в 1961 году: он был опубликован вначале в США, затем - во Франции под названием "Экзистенциальные основы человеческого достоинства". Философ выступал с докладами и лекциями в Марокко и в Японии, в Ливане и в Испании, в Канаде и в Греции, почти во всех крупных городах Латинской Америки (Бразилии, Перу, Эквадора и других), не говоря, разумеется, о западноевропейских странах.
Ностальгическое чувство в отношении культуры стран Восточной Европы, как фактически отрезанной, ставшей почти недоступной, было в Марселе очень сильно. В этом постоянном интересе сказывалось острое чутье в отношении современности и, еще более, будущего, чутье, которое в философе, с его "несвоевременными мыслями", оставалось незамеченным окружающими. Между тем Марсель пишет: "Это факт, что для меня постоянно возрастает значение проблемы взаимоотношений - наших взаимоотношений - со странами Восточной Европы"**. Неприятие политического режима отрезало его от этого региона, однако интерес его к этим странам, носителям высокой исторической культуры, и
Ibid. P. 279. ·· Marcel G. En chemin, veis quel éveil? P. 248.
к их современной жизни оставался живейшим; вопрос о том, насколько туда проникали его идеи, его философия, был ему также небезразличен. В апреле 1969 года он посетил Дрезден по приглашению католического священника Зигфрида Фёльца; одновременно удалось осуществить давнее заветное желание: "... на обратном пути решили провести 36 часов в Праге, которой я еще не видел и о которой так часто мечтал". Отрадной неожиданностью было для него приглашение прочесть лекцию в Карловом университете. Позже Марсель писал о Праге: "Этот слишком краткий визит в один из самых прекрасных городов Европы, с богатейшей историей, оставил во мне неизгладимое воспоминание"...*
О том, что философу были чужды догматические позиции, что он был открыт для восприятия нового, свидетельствует и следующий факт. Он был очень огорчен, когда из-за ухудшившегося состояния здоровья не смог принять приглашение из университета в Вальпараисо прочесть лекцию о том, каким нам следует представлять себе справедливое общество. Приглашение это, отмечает Марсель, тронуло его тем, что к тому времени, после выборов 1970 года, Чили стало социалистическим государством.
В этой пестроте, этом многообразии городов, регионов, континентов действительно есть нечто парадоксальное. Ведь речь идет не о профессоре, один семестр читающем курс в США, другой - в какой-либо из стран Западной Европы, а о мыслителе, принципиально не преподававшем, весьма эзотеричном, с кругом тем, которые можно счесть довольно субъективными, мыслителе, который и в своей среде вовсе не был "философом для всех". Интерес к его мысли в разных регионах мира, по истечении более чем двадцати лет со дня его смерти явно возросший, тем более показателен, что Марсель в отличие от очень многих современников избегал синтеза своей философии с обретшими большую популярность, вошедшими в моду восточными философиями и религиями; питая к ним глубокий интерес, Марсель тем не менее считал такой синтез искусственным. При этом его собственное мировоззрение оказалось близким, доступным для восприятия в самых отдаленных от Европы культурных регионах. Возможно, это произошло в силу тех черт его творчества, о ко-
торых сам он писал: "... отсутствие очерченности, строгих рамок, открытость навстречу людям - совершенно иным, тем, что кажутся далекими".* Еще в 1947 году выдающийся католический философ Э. Жильсон писал о нем: "В философии, как и во всем другом, ценно подлинное. Поэтому Г. Марселя всегда будут читать - как Монтеня, Паскаля, как Мен де Бирана..."**
Грандиозные просторы, девственные пейзажи Северной Америки, Япония и Перу, Ближний Восток и Бразилия. Казалось бы, путешествия философа, его восхищение пейзажами - факты его биографии, которые вовсе не обязательно должны быть включены в обзор его учения. В действительности же этот контакт с природой, с бытием, с сущим - важнейшая составляющая духовного мира Марселя. Он нашел воплощение уже в ранних его работах, сосредоточенных на проблемах ощущения и восприятия, на той естественной, неотчуждаемой связи, которой живо человеческое существо, на его уже почти потерянном рае. (Вспомним в этой связи и о трактовке Жаном Валем способности воспринимать как качества, не уступающего способности к творчеству.) Не случайно в экзистенциализме речь о восприятии всегда подразумевает наполнение последнего неким глобальным смыслом контакта с миром, co-esse. Можно, конечно, говорить и об элементах спиритуализма в учении Марселя, и о "сверхчувственном"; но вот что в мемуарах подчеркивает он сам: "Что я по меньшей мере могу утверждать, так это ту страстную любовь, которую во все периоды своей жизни я испытывал к красоте, воспринимаемой чувствами"***. Игнорирование его биографами, исследователями его творчества, той роли, которую играл пейзаж в его жизни, сам Марсель считал существенным пробелом. В раннем детстве суровый скандинавский пейзаж был необыкновенно близок его сердцу, расставание со Швецией переживалось им болезненно. Позже он полюбил юг Франции, уютные сельские уголки юга Англии, близ Ла-Манша. Пейзаж приобщает к самому сердцу бытия, восприятие ландшафта - невыразимая, неисчерпаемая форма причастности. Однако предмет любования, восхищения - это, как и у Рильке, не один лишь мир при-
Marcel G. En chemin, vers quel éveil? P. 281-282.
* L"Existentialisme chrétien. P. 5.
·*· Marcel G. En chemin, veis quel éveil? P. 274.
роды ("великой, безучастной, могучей"), это и мир обжитый «ларический»,* мир человеческой цивилизации, рукотворных шедевров, прекрасных городов. Мы видели, что писал Марсель о Праге, о Дрездене. Другую гамму настроений, в отличие от гармоничной красоты городов старой Европы, вызывают в нем сверхиндустриальные города-гиганты Америки "апокалиптическая красота» Нью-Йорка, Чикаго и других урбанистических центров на фоне Гудзонова залива или Великих озер. Нельзя, пишет Марсель, при этом не почувовать той ужасающей опасности, которой там подвергает все то, что в наших глазах, в глазах людей Старого Света сообщает жизни ценность и смысл**.
В период с 1959 по 1966 г. Г. Марсель несколько раз посещает Соединенные Штаты, и надо сказать, что эти поездки для него - не только источник ярких, контрастных впеч; лений, но и возможность, повод отдать философские «долги". Марсель считает, что своим формированием во многом обязан влиянию, которое на него оказало до и во время первой мировой войны чтение Дж. Ройса, в какой-то степени У. Джеймса, - но прежде всего, разумеется, Хокинга. Марсель характеризует его как "представителя великодушной открытой философии, происходящей из сочетания гуссерлевской феноменологии и спекулятивного мышления Уатхеда и Ройса"***, как редкое, блестящее олицетворение современного мыслителя. Марсель высоко отзывался и о современной ему американской интеллектуальной элите, замечая, однако, при этом, что контакты с неопозитивистами преобладавшими в американских университетах, в частности в Гарвардском, носили исключительно формальный рактер, подлинное общение устанавливалось с определеными студенческими кругами, неудовлетворенными неопозитивизмом. Тем не менее американская философия ocталась для Марселя одним из полюсов притяжения, чем сам объясняет тот факт, что в США его философия распространялась быстрее, чем в некоторых европейских странах. Острой критике Марсель подвергал многие стороны внешней и внутренней политики Соединенных Штатов в эти год
лат.: lar - очаг, дом; лары (лат.: lares) - духи-покровители домашнего очага.
·* Ibid. P. 258. ·** Marcel G. En chemin, vers quel éveil? P. 256.
это "абсурдная война во Вьетнаме", расовая сегрегация, масштабы экологического загрязнения и проблемы мегаполисов, и это, конечно, драма наркомании и пр.
Гибель природы на наших глазах - это, утверждает Марсель, мировая трагедия. Для него самого природа и гуманизм смыкаются теснейшим образом; их синтез -искусство. В этом вопросе, как и во многих других, он ссылается на творчество Пруста. С природой для Марселя связана и неисчерпаемая любовь к музыке: к музыке, в которой, пишет он, "в сердце моего внутреннего пейзажа в каком-то смысле отражается Небо, в которое я верую"*.
В своей последней книге Г. Марсель посвящает проникновенные строки России, которая оставалась для него закрытой страной... "Пусть это покажется парадоксальным, - пишет философ, - но я, увы, не знающий русского языка и, в целом, славянских языков, чувствую себя все более вдохновленным этим восточным миром, каким он мне открылся вот уже более полувека тому назад в творчестве великих романистов и, еще более непосредственным образом, в творчестве Мусоргского".** И далее: "Россия, в которой я никогда не был и которая, однако, каким-то образом стала мне, быть может, ближе, чем любая другая европейская страна. По многим причинам, и прежде всего потому, что я не знаю русского языка, я не надеюсь посетить эту страну, но у меня острое чувство близости с ней"***.
Ibid. P. 209
·· Marcel G. En chemin, vers quel éveu? P. 254.
·· Ibid . P. 274.