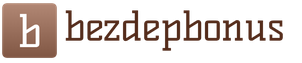Этическая концепция л н толстого. Русская этическая мысль XIX - XX вв
Этическое учение Толстого базируется на идеях самосовершенствования, любви и всепрощения. Чтобы спасти себя, свою душу, человек должен обратиться к добру, творить добро, отвратиться от зла. По мнению Толстого, суть нравственного идеала наиболее полно выражена в учении Иисуса Христа, этике любви. Центральной заповедью Иисуса Христа Толстой считал заповедь «Не противься злому». («Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» - Мф. 5:39).
На добро надо отвечать добром, но и на насилие надо отвечать добром. Насилие совпадает со злом и прямо противоположно любви. Человек может заниматься внутренним нравственным самосовершенствованием, обязан бороться со злом в самом себе, но человеку не дано судить другого. Толстой был убежден, что единственный способ противостоять насилию – это использовать духовное влияние, позитивную силу любви и правды, а также такие формы сопротивления, как убеждение, спор, апелляция к совести, протест, которые призваны отделить человека, совершающего зло, от самого зла.
ТЕМА 1.2 МОРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И НРАВСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПОНЯТИЕ МОРАЛИ
В истории человеческой культуры можно встретить великое множество точек зрения на природу морали, её происхождение и сущность.
Одни определяли мораль как «опыт житейской мудрости», другие – как «наикратчайший путь к обретению счастья», третьи – как «исполнение божественных заветов, которые обеспечивают бессмертие личности». На протяжении истории мораль трактовали как «школу воспитания человека», «успокоительную иллюзию», помогающую человеку влачить своё бесцельное существование», некоторые считали мораль «инструментом сохранения порядка в обществе», «инструментом, который обуздывает животные инстинкты человека».
Мораль и нравственность – одна из самых удивительных сфер духовной жизни общества.
Мораль – это совокупность норм и принципов поведения людей по отношению друг к другу, к окружающим, к обществу, человечеству, санкционированных личным убеждением, общественным мнением и традициями.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ МОРАЛИ
Натуралистическая концепция выводит мораль из природы человека и из предшествующей эволюции животного мира. Натуральная концепция морали восходит к Чарльзу Дарвину и Герберту Спенсеру, которые сформулировали так называемый эволюционный подход к этике, а затем в ХХ в. породили многочисленные биологизаторские представления о морали. Эволюционные идеи сводились к следующему: человек как социальное животное живет в обществе себе подобных, опираясь на механизмы биологической регуляции и социальные инстинкты; с течением времени биологически обусловленные социальные инстинкты развивают душевные способности человека и становятся нравственностью; привычка укрепляет нравственность и постепенно в общественном мнении складываются и формируются правила общежития.
Сторонники эволюционной теории нравственности считали, что целый ряд чувств человека (память, внимание, любопытство, любовь) можно обнаружить у животных. Биологическую теорию происхождения морали поддерживают и в наше время.
Однако подобный натуралистический подход к морали, на наш взгляд, весьма уязвим, так как не учитывает, что человек, в отличие от животного, обладает способностью осознавать свои намерения, осуществлять контроль своих поступков, давать им оценку и оценивать поведение других, человек обладает способностью и потребностью в духовном наполнении своей жизни и своих помыслов.
С древнейших времен существует религиозная трактовка происхождения морали, в соответствии с которой правила и нормы общения установили для людей высшие существа, боги. Высшие силы поощряли добродетель и наказывали пороки и приучали людей к нравственности. Теория божественного происхождения морали имеет многочисленных сторонников. Суть ее такова. Человек получает мораль в виде «естественного нравственного закона» (внутренний закон) и в виде богооткровенного закона (внешний закон). Это очень легко доказать, говорят сторонники религиозной трактовки морали. Во-первых, нравственность, нравственные нормы не могут быть созданы грешным во своей природе человеком; во-вторых, нравственный закон указывает, как надо и как не надо себя вести безотносительно к тому, что на самом деле делает и как в действительности ведет себя человек в земной жизни; в- третьих, природа человека не является источником морали, ибо человеческие естественные влечения часто противоречат велениям нравственности. И если бы человек был творцом своей морали, он, конечно же, установил бы такие правила, которые можно было бы легко и без принуждения выполнять. Но в действительности мы видим, что быть моральным очень не просто, добродетельное поведение требует значительных усилий и самопожертвования, нравственный человек, чтобы оставаться таковым, постоянно вынужден подавлять свои естественные влечения и побуждения.
Трудно не согласиться с тем, что религиозная концепция морали обладает целым рядом достоинств, которые и обеспечили ей существование в течение многих столетий и даже тысячелетий в истории. Религиозное учение, обращаясь к эмоционально-образным, чувственным компонентам человеческой натуры, формирует духовность, культивируя чувства любви, сострадания, милосердия, в которых так нуждается и к которым столь трепетно относится человек во все времена. Религиозная доктрина свободна от сухого рационализма, она возвышает нравственные искания человека до высот нравственного духа, помогает человеку обрести смысл жизни, обрести душевный покой, преодолеть и пережить превратности судьбы, болезни, потерю близких, несчастную любовь, предательство друга, разочарование профессией, одиночество и страх смерти. Кроме того, и это уместно здесь заметить, религиозная трактовка подчеркивает универсальный, общечеловеческий характер морали; перед моралью, как перед Богом, все равны. Такая демократичность религиозной морали обеспечивает ей симпатии многочисленных мирян во все мире.
Однако и религиозная трактовка происхождения морали не является абсолютно приемлемой, она вызывает сомнения у тех, кто колеблется в вопросах признания веры, у скептиков, атеистов. Ведь в давние времена, когда и религии-то еще не было, моральные нормы, правила поведения уже существовали. А как быть с атеистами: сегодня, к примеру, из шести миллиардов, населяющих землю, почти половина неверующих.
Если же Бог сам, по собственному волеизъявлению определяет для нас моральные принципы, правила поведения, то моральные заповеди являются результатом произвола, пусть и божественного.
Серьезные сомнения в справедливости божественной теории происхождения морали связаны также и с представлениями о том, что религиозная мораль явно занижает, недооценивает роль самого человека в процессе становления морального сознания. Религиозная мораль требует от человека пассивного принятия ее норм как аксиомы, без права на сомнение, без раздумий, воспринимает человека как «тварь дрожащую», раба, лежащего у ног Господина.
Развитие демократических идей в XIX в. сделало популярной теорию социальной природы морали. Эта концепция восходит к Аристотелю, который в свое время указывал, что человек - это «политическое животное». В XIX в. теорию социальной природы морали развивают и поддерживают К. Маркс, Э. Дюркгейм, М. Вебер. Действительно, особенность морали состоит в том, что она порождается и существует там, где «человек-коллектив-общество».
Нравственность определяется в конечном счете тем образом жизни, который ведут люди и который зависит от совокупности всех общественных отношений. Общество предъявляет ряд требований к поведению человека, эти требования могут совпадать с интересами человека, а могут и не совпадать. Иными словами, мораль есть отражение взаимосвязи между личными и общественными интересами людей, между личностью и обществом. Основой морали выступает чувство человеческой солидарности, которая объединяет людей, побуждая заботиться о другом, себе подобном.
Однако понимание морали как социального явления, выведение морали из особенностей исторического бытия людей таит опасность сведения всех свойств человека к его общественным характеристикам, что и стало характерной особенностью коммунистической морали, в которой социальное было абсолютизировано и принесено в жертву и духовному, и биологическому началам в человеке. На самом деле личность не поглощается обществом, человек как личность сохраняет известную самостоятельность по отношению к социальному целому - к обществу. Развиваясь как общественное существо, человек в то же время приобретает индивидуальные черты. Это и порождает возможность несовпадения его интересов с интересами других людей или общества в целом.
Похожая информация.
Глава пятая
ЖИЗНЕННЫЕ
И ДУХОВНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ НАЧАЛА ХРИСТИАНСКОЙ ЭТИКИ
Оценивая религиозно-философское творчество Толстого, Н . А. Бердяев заметил, что его религиозная драма была бесконечно глубже его религиозно-философских идей, а его религиозная философия есть лишь феноменология его великого духа 1 . Эти слова имеют прямое отношение к христианской этике Толстого, ибо здесь сама жизнь по закону любви, заповеди непротивления и принципу неделания является критерием истинности теории, а духовно-нравственный опыт - обоснованием идеи. Логика и смысл нравственного учения Толстого во многом являются отражением его духовного опыта. И вместе с тем духовный опыт нередко оказывается единственным свидетельством подлинности, достоверности самой концепции этики. Так бывает всегда, когда провозглашаются высшие духовные принципы, призванные стать кардинально новым жизнеучением. Личный пример, индивидуальный духовный опыт становится при этом "главным аргументом", перевешивающим все прочие логические доказательства.
В этом смысле христианская этика Толстого во многом может быть понята и определена на основе его духовного опыта. Для Толстого проблема воплощения этических принципов в жизни занимала центральное место во всем его религиозно-философском учении. При этом само учение как бы незаметно переходило в жизнь, становилось своего рода "планом" действия; а жизнь переливалась в учение - превращалась в своеобразный эксперимент по претворению христианских максим в экстремальные условия существования.
Толстовская "программа" воплощения принципов христианской этики включала в себя следующие моменты:
-- борьба с грехами, соблазнами и суевериями;
-- проявление усилия сознания, ведущее к самоотречению, смирению, правдивости и завершающееся "умопеременой";
-- нравственное самосовершенствование;
Неделание;
-- формирование общественного мнения, соответствующего новому жизнепониманию;
-- неповиновение, неучастие и др. формы "массового" непротивления злому.
Таким образом, данная "программа" предполагала переход от индивидуальных, "автаркичных" форм жизни к "массовым", социально-политическим формам. Акцент на последних особенно характерен для позднего Толстого ("Конец века", "Неизбежный переворот", "О смысле и значении русской революции" и др.). В полном объеме эти моменты были реализованы в духовном опыте толстовства.
Однако сама эта "программа" должна была получить "санкцию" в духовном опыте, чтобы подтвердить свое право на "социальную достоверность", определяющую общечеловеческую перспективу, так как в противном случае даже успешный эксперимент по претворению принципов христианской этики в жизнь может быть вполне расценен как "сектантский" опыт. Поэтому центральным моментом религиозно-нравственного учения Толстого стала проблема источников, оснований и критериев духовного опыта, призванного связывать фундаментальные принципы с жизнью. От решения этой проблемы во многом зависит, например, религиозная и политическая значимость важнейшей части христианской этики Толстого - его учения о непротивлении злу насилием: выражает ли оно действительные перспективы социальной и духовной эволюции человечества или является всего лишь разновидностью религиозного сектантства и политического экстремизма. Если духовный опыт зла, греховности, любви, "совершенной радости", "неделания" и т. п. является всего лишь внутренним "достоянием" самого Толстого, его индивидуальным жизненным испытанием, "законом" его личного богоискательства, "автопортретом его души" (И . А. Ильин), то "программа" непротивления, несмотря на талант проповедничества, подвиг самоотверженного ухода из мира, поддержка учеников и последователей и т. д. тем не менее обречены на провал.
Это очень хорошо понимал один из самых глубоких критиков учения о непротивлении - И . А. Ильин, выдвинувший весьма серьезные аргументы против "объективности", "общезначимости" духовного опыта Толстого, особенно опыта переживания и восприятия зла.
Конечно, нельзя не принять во внимание, что опыт переживания зла у Толстого существенно отличался от опыта переживания зла того поколения и той части русской интеллигенции, испытавшей ужасы мировых войн, революции, наконец, изгнанничества, к которой принадлежал И . А. Ильин. Г. Марсель в одной из своих работ говорит о двух видах зла: зло, которое мы созерцаем, и зло, в которое мы вовлекаемся. "Зло созерцаемое" не является собственно злом, замечает Марсель. "В действительности я расцениваю его как зло, лишь когда оно настигает меня, т. е. когда я во влечен в него каким-то образом ... " 2 .
Своей критикой И . А. Ильин как бы хочет сказать, что Толстой имел дело именно с "созерцаемым" злом, поскольку сам по настоящему не был вовлечен в ситуацию зла, т. е. не испытал подлинного ужаса войны, революции, изгнания и т. п. Действительно, при чтении дневников и писем Толстого может создаться впечатление, что Толстому "не хватало" зла, что он сам искал страдания и призывал "бедствия на свою голову". Толстой как бы жаждал быть Иовом своего времени.
Однако парадокс "вовлеченности" в ситуацию зла состоит в том, что порой "маленькое", "домашнее" зло оказывается страшнее и безысходнее, чем "великое", "народное" горе. "Семейное" зло перевешивало для Тол с того зло войны, зло революции, зло изгнанничества вместе взятых. В одном из писем к В . А. Молочникову, находящемуся в тюрьме, он писал: "Я не в тюрьме, к сожалению, но моя тюрьма без решеток, иногда, в слабые минуты, кажется мне хуже вашей. Вам больно, а мне, не переставая, стыдно" 3 . Точно так же Толстой мог бы сказать: "я не на войне", "я не в изгнании", "я не в аду" и т. п. , но моя семейная "война", мое семейное "изгнанничество", мой семейный "ад" хуже вашего.
Именно "семейное" зло, "семейный соблазн" и явились, по нашему мнению, тем источником и основанием духовного опыта непротивления и неделания Толстого, который придал его учению социальную общезначимость и нравственно-психологическую достоверность. Семья всегда была и будет "онтологическим" центром любых общественных и личных потрясений и катаклизмов: войн, революций, измен, ссор, вражды и т. д. и т. п.
На наш взгляд, "этос изгнанничества" привел И . А. Ильина к абсолютизации опыта зла своего поколения. Ильина изгнали; Толстой "изгнал" себя сам: какое из этих двух зол больше и "объективнее"? Толстой мечтал быть изгнанным, преследуемым властями; и его переживание зла усугублялось именно невозможностью быть вовлеченным в "абсолютное" зло, разделив его с самыми страждущими людьми человечества 4 . Можно сказать, что всей своей жизнью Толстой был поставлен в положение человека, лишенного свободы выбора зла. Однако "семейное" зло, с которым ему пришлось столкнуться, в действительности оказалось страшнее и трагичнее любых других видов зла. И позиция любви и непротивления явилась для Толстого единственно возможным выходом из основного противоречия своей жизни: отвержения семьи и приятия семьи, жизнью в семье и уходом из семьи.
1. ИСТОЧНИКИ И КРИТЕРИЙ НРАВСТВЕННОГО ОПЫТА.
СЕМЕЙНЫЙ "ЭТОС" КАК ГЛАВНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ИСТОЧНИК
ХРИСТИАНСКОЙ ЭТИКИ Л. Н. ТОЛСТОГО
Рациональное обоснование принципов христианской этики - их целесообразности, разумности, духовности, практичности и т. д. нередко входит в противоречие с фактами жизненного, нравственного опыта, свидетельствующими об обратном. Это заставляет усомниться в "объективности", общезначимости логики их обоснования. Уже B . C . Соловьев в своей критике толстовского учения о непротивлении злу насилием подметил, что логика взаимосвязи добра и зла проистекает здесь, скорее, из субъективного убеждения автора, чем из достоверного жизненного наблюдения. " ... Вам известны какие-нибудь случаи, чтобы доброта доброго человека делала злого добрым или, по крайней мере, менее злым? Даже Христос при всей своей доброте ничего хорошего не мог сделать с душой Иуды Искариота или злого разбойника" 5 . Согласно Соловьеву, общезначимый, достоверный опыт показывает нам, что "действительное благодеяние, в конце концов, увеличивает добро в добром и зло - в злом. Так должны ли мы, имеем ли даже право всегда и без разбора давать волю своим добрым чувствам?" 6 , - вполне справедливо задается вопросом противник принципа непротивления.
Такого рода сомнение порождает целый ряд вопросов, связанных с проблемой источников и критерия нравственного опыта, лежащего в основе христианской этики Толстого. Действительно ли "логика" этических принципов противоречит общезначимому нравственно-психологическому опыту? Можно ли считать эту "логику" выражением "субъективного" опыта жизни или же в ней проявляются высшие, общечеловеческие ценностные соотношения? Является ли нравственный опыт Толстого уникальным творческим экспериментом, который никому нельзя повторить, подобно тому, как никто не может написать вторую "Войну и мир", или же этот опыт может быть использован в качестве общей программы действий? Все эти вопросы, в конечном счете, сводятся к одному: каковы источники и критерий нравственного опыта Л. Н. Толстого, насколько они достоверны по своей сути, т. е. соответствуют общезначимому нравственно-психологическому опыту переживания добра и зла, и в какой мере они выражают общечеловеческую перспективу борьбы со злом и достижения высшего блага?
Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся в начале к некоторым критическим мыслям И . А. Ильина, выдвинутым им в работе "О сопротивлении злу силою" и имеющим прямое отношение к обсуждаемой проблеме. Оценивая учение о непротивлении злу насилием в целом, Ильин исходит из того, что постановка проблемы о допустимости борьбы со злом посредством физического сопротивления или, напротив, непротивления злу требует от философа прежде всего наличности верного духовного опыта в восприятии и переживании зла, любви, блага и т. д. Не логические аргументы, а именно духовный опыт определяет в конечном счете правильность и весомость учения о непротивлении. Особенно важным и принципиальным является при этом духовный опыт восприятия и переживания зла. "Следует или не следует физически пресекать злодеяния, - подчеркивает Ильин, - в этом компетентен только тот, кто видел реальное зло, кто воспринял его и испытал; кто получил и унес в себе его дьявольские ожоги ... " 7 .
Приступая к критике "чистого зла" в опыте Толстого, Ильин, прежде всего, противопоставляет этот опыт более, на его взгляд, "достоверному", опыту переживания зла своего поколения. "Нашему поколению опыт зла дан с особенною силою, впервые, как никогда раньше. В итоге долго назревавшего процесса злу удалось ныне освободить себя от всяких внутренних раздвоенностей и внешних препон, открыть свое лицо, расправить свои крылья, собрать свои силы, осознать свои пути и средства ... Ничего равно сильного и равнопорочного этому человеческая история еще не видела или, во всяком случае, не помнит. Столь подлинное зло впервые дано человеческому духу с такой откровенностью" 8 . Таким образом, И . А. Ильин строит свою критику на той предпосылке, что опыт зла у Толстого изначально не достоверен, не подлин. Даже если бы Толстой сумел выразить его с максимальной полнотой и "объективностью", то и тогда его учение не могло быть истинным, соответствующим духовной ситуации XX в. Толстой просто не мог, по мысли Ильина, воспринять и пережить в своем опыте основные свойства новой парадигмы зла: его единство, аг рессивность, лукавство и многообразие. Например, всеобщая взаимная связанность людей, все более возрастающая в XX в., ставит каждого человека в положение вольного или невольного соучастника зла и держит его в этом положении до тех пор, пока он не совершит "волевой отрыв" от злодея и не обратится к нему "во всей силе активно-отрицающей любви". Реальная взаимная связанность людей делает человека как бы "постоянно присутствующим" не только при том зле, в которое он непосредственно вовлечен, но и которое совершается "помимо него". Это существенно расширяет опыт переживания агрессивности и многообразия зла, требует его активного пресечения, поскольку "положительная любовь" в рамках всеобщей сверхличностной взаимосвязи людей, не достигает своей цели и т. д. 9
Однако мало того, что Толстой просто не мог учесть в своей философии непротивления эти новые свойства зла, он не смог цельно и объективно выразить и осмыслить опыт зла своего времени. Согласно Ильину, толстовское учение о непротивлении злому покоится на чисто индивидуальном, предметно неуглубленном и непроверенном, философски незрелом опыте переживания зла. Объективный, терминологически выверенный и обоснованный анализ проблемы зла подменяется здесь анализом "собственных душевных состояний". "Для философствующего и учительствующего писателя, - подчеркивает Ильин, - сомнение в состо ятельности и верности своего духовного опыта является первою обязанностью, священным требованием, основою бытия и творчества; пренебрегая этим требованием, он сам подрывает свое дело и превращает философское искание и исследование в субъективное излияние, а учительство - в пропаганду своего личного уклада со всеми его недостатками и ложными мнениями" 10 .
В чем же конкретно усматривает Ильин ограниченность и субъективность толстовского опыта переживания блага и зла?
Прежде всего, в его общей рационально-моралистической узости, односторонности, препятствующей цельному духовно-религиозному и нравственно-психологическому восприятию и переживанию добра и зла. В результате, вся глубина и целостность восприятия взаимосвязи добра и зла сводится у Толстого к "живому чувству жалостливого сострадания", именуемого "любовью" и "совестью", а также к принципам эгоцентризма и субъективизма, ограничивающим сферу реальности добра и зла личной добротой и личной порочностью. Отсюда, Ильин приходит к выводу, что для Толстого критерий духовного опыта непротивления злому сводится к "моральной верности душевного состояния". Если для религиозного человека "моральность" есть условие или ступень, ведущая к боговидению и богоуподоблению; если для ученого "моральность" есть экзистенцминимум истинного познания; если для политика-патриота "моральность" обозначает качество души, созревшей к властвующему служению, - то здесь "моральность" есть последняя и ничему высшему не служащая самоценность" 11 . Таким образом, по Ильину, философия непротивления есть типичный продукт самодовлеющей, автономной "моральности", лишенный какой-либо ре лигиозной, научной или политиче ской значимости.
Воспользовавшись данными критическими соображениями, попытаемся оценить и проанализировать источники и критерий духовного опыта непротивления Толстого с позиций современного опыта зла, отстоящего от поколения Ильина почти на 75 лет. В своей жизни Толстому приходилось сталкиваться с разными видами зла: социальным злом (война, собственность, неравенство, рабство, злоупотребление властью, голод и т. д. ); моральным злом (грехи, пороки, соблазны и т. д. ); физическим злом (страдания, болезни, смерть), наконец, злом семейным. Причем Толстой был не просто пассивным, сторонним наблюдателем, "созерцателем" того или иного вида зла, но был непосредственно вовлечен в саму ситуацию зла. Очевидно, что толстовское понимание зла во многом расходится с его опытом переживания зла. Разум говорил Толстому о том, что зло есть "непонятое добро"; чувства же нередко противоречили такому пониманию.
Рассмотрим наиболее характерные примеры. Зло войны Толстой испытал, еще будучи весьма молодым человеком. Разумеется, "кавказская" война - это не мировая война, хотя сравнивать войны по степени большего или меньшего зла вряд ли допустимо. Другое дело, что Толстой воспринимал событие войны подобно Декарту, который уходил на войну, чтобы спокойно и свободно философствовать. Также и Толстой занимался на войне сочинением повестей и рассказов, а кроме того нравственным совершенствованием, составлением нравственных правил жизни, которыми пестрят его дневники того времени. Философское же поколение И . А. Ильина было уже жертвой, а не участником военных действий. В восприятии жертвы зло всегда выглядит ужасней, безысходней, "онтологичней", чем в восприятии участника, непосредственно вовлеченного в ситуацию зла. Это как раз тот случай "пассивного присутствия", обусловленного "всеобщей реальной взаимосвязью во зле", которое делает зло единым, агрессивным, лукавым и многообразным.
Психологически все это легко объяснимо. Терпеть зло всегда страшнее и больнее, чем совершать зло. Современное зло таково, что в силу "всеобщей связанности во зле" все большее число людей становятся жертвами случайного "исполнителя" зла, не предназначенного непосредственно им. Во времена Толстого такая ситуация была скорее исключением из правил. "Классическое" зло имеет конкретную направленность, бывает адресовано конкретному лицу. Поэтому к нему вполне возможно относиться с позиций непротивления. Но как и кому не противиться, если ты оказываешься жертвой некоего случайного, абстрактного, всеобщего зла, которое задевает тебя в силу "всеобщей связанности во зле"? Именно такие изменения претерпевает опыт восприятия зла, и прежде всего зла мировой войны и русской революции, у поколения, к которому принадлежал Ильин.
Тем не менее Толстой в полной мере пережил зло войны, участником которой он был. В его "Дневниках" встречаются следующие записи: "Война такое несправедливое и дурное дело, что те, которые воюют, стараются заглушить в себе голос совести" 12 .
В целом Толстой оценивает для себя опыт войны как безус ловно отрицательный: "Кавказская служба ничего не принесла мне, кроме трудов, праздности и дурных знакомств" 13 .
Безусловно, данные оценки Толстого как непосредственного участника военных событий весьма сдержанны, умеренны. Они могли бы быть совершенно иными, если бы их давал "поздний" Толстой, глубоко проникнутый духом пацифизма и антимилитаризма. Однако, несмотря на это, у нас нет оснований сомневаться в "подлинности" толстовского опыта переживания зла войны, хотя, повторяем, это был опыт не жертвы, а участника военных событий со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Но не зло войны явилось главным источником толстовского опыта переживания зла, непосредственно инициирующего учение о непротивлении злому. Война влечет за собой прежде всего страдания и смерть, т. е. последствия физического зла. Для Толстого же гораздо страшнее и серьезнее было зло социальное (собственность, власть) и моральное (грехи, соблазны), не говоря уже о зле семейном. Война ужасала прежде всего своими моральными последствиями. В этом отношении Толстой был бы вполне солидарен с Ганди, утверждавшим, что война является отрицанием истины и гуманности. Дело здесь не только в убийстве людей, ибо человек так или иначе должен умереть, а в сознательном и упорном распространении ненависти и лжи, которые мало-помалу прививаются людям.
Характерно, что толстовский опыт переживания зла отличается в этом плане одной существенной особенностью, которую в своей критике толстовства явно не учитывает И . А. Ильин. Возможно, опыт восприятия зла у Толстого кажется несколько "легковесным", "неподлинным" и "моралистическим" по той причине, что Толстой совершенно отрицает факт физического зла, т. е. не воспринимает страдания и смерть как зло. Именно в отношении смерти и страданий толстовское понимание зла полностью совпадает с опытом его переживания.
Однако, мало того, что Толстой отрицает зло смерти, он даже склонен понимать и воспринимать смерть как благо, ибо смерть есть "освобождение от односторонности личности" и "исходит от Бога", а все, что дано Богом - добро 14 . Этот силлогизм мог бы показаться трюизмом и отвлеченным морализированием, если бы не жизненный опыт переживания Толстым смерти самых близких и любимых людей: сына Ванечки и дочери М . Л. Толстой (Оболенской). Вот что пишет Толстой по поводу их смерти: "Так много перечувствовано, передумано, пережито за это время ... Смерть Ванечки была для меня, как смерть Николеньки, нет, в гораздо большей степени, проявление Бога, привлечение к нему. И потому не только не могу сказать, чтобы это было грустное, тяжелое событие, но прямо говорю, что это (радостное) - не радостное, это дурное слово, но милосердное от Бога, распутывающее ложь жизни, приближающее к Богу событие" 15 . В том же духе Толстой оценивает смерть своей любимой дочери Марии. "Странное дело. Я не испытывал ни ужаса, ни страха, ни сознания совершающегося чего-то исключительного, ни даже жалости, горя. Я как будто считал нужным вызвать в себе особенное чувство умиления горя и вызывал его, но в глубине души я был более покоен, чем при поступке чужом - не говорю уже своем - нехорошем, не должном" 16 .
Толстой здесь прямо говорит о том, что самое большое и страшное физическое зло - смерть - вызывает у него меньше переживаний, эмоций, чем моральный проступок, чужой, а, тем более, собственный. При этом Толстой вовсе не навязывает своих переживаний другим. Он понимает, что жена, близкие, друзья "не могут так смотреть на вещи". Значит ли это, что толстовский опыт переживания зла действительно остается уникальным, чисто "субъективным" феноменом, как и полагал И . А. Ильин? И вообще, как следует расценивать сам факт такого рода опыта: формирует ли Толстой свой опыт на основе определенной рациональной схемы, концепции зла, или же его понимание зла является выражением и осмыслением его уникального нравственно-психологического опыта?
Разумеется, опыт переживания смерти был у Толстого уникальным, особенно для своего времени, но эта уникальность отнюдь не "клинического", а духовного порядка. Точно так же воспринимали смерть близких, любимых людей и относились к своей собственной смерти великие философы древности: Лао-цзы, Конфуций, Солон, Сократ и многие другие. Именно они составляли "ближайший" жизненный круг Толстого, именно с ними он постоянно мысленно общался и переносил их эмоциональные реак ции, их мотивацию и способ переживания на свою жизнь. Поэтому не удивительно, что Толстой был ближе к мудрецам древности, чем к своим современникам.
Другой вопрос, насколько "субъективен", ограничен сам "философский" взгляд на смерть, философский способ переживания добра и зла? На этот вопрос лучше всего ответил сам Толстой: "Все заблуждения философов - от построений объективных. А несомненно только субъективное, не субъект Ивана, Петра, а субъективное общечеловеческое, познаваемое не одним разумом, но разумом и чувством - сознанием" 17 .
Таким образом, толстовский опыт переживания зла и других ценностей формируется на основе конкретно-идеальной, субъективно-общечеловеческой парадигмы, предполагающей духовную целостность мироощущения (единство разума и чувства) и уходящей своими корнями в общечеловеческий эталон мировосприятия мудрецов древности, непреходящий опыт которых равно значим для всех времен и народов. Другое дело, что современникам не всегда под силу осуществить этот опыт; они могут только ориентироваться на него, в той или иной мере приближаться к нему. Толстой же фактически повторяет, воспроизводит этот опыт во всей его чистоте и полноте, ни на йоту не отступая от абсолютных требований добра. От этого его призывы воспринимаются современниками как абстрактные, моралистические лозунги, а его опыт представляется субъективным и даже эгоцентричным, не отвечающим духу современной ситуации борьбы со злом.
В этом смысле Ильин скорее сужает, чем расширяет границы духовного опыта; его "конкретизация" парадигмы зла слишком привязана к обстоятельствам своего времени, к духу своей эпохи. Отсюда, очевидная политизированность его критики, беспощадно вскрытая Н . А. Бердяевым в отклике на книгу "О сопротивлении злу силою" 18 .
Для своего времени критика Ильиным толстовства в целом представлялась чрезвычайно убедительной, претендуя даже на "погребение набальзамированного толстовства" (слова Ильина из письма к П . Б. Струве) 19 . Однако сегодня можно говорить с полным основанием о том, что толстовский "субъективно-общечеловеческий" опыт зла и, в частности, опыт переживания смерти и страдания нисколько не утратил своей метафизической достоверности и духовной общезначимости, так что критика Ильиным толстовского опыта зла эффективно "работает" только в пределах 20-50-х годов нашего столетия, т. е. в период специфической агрессивности зла.
В целом же критика "чистого опыта зла" обнаруживает всю антиномичность проблемы борьбы со злом. С одной стороны, вполне оправданным и исторически правомерным является "сопротивление злу силой" (тезис); с другой стороны, с метафизических и духовных позиций более эффективным и обоснованным представляется "непротивление злу насилием" (антитезис). У самого Ильина в последних главах его книги мы находим определенную попытку синтеза этих двух подходов 20 . Однако фактическим, принципиальным решением данной дилеммы является отнюдь не синтез, а абсолютное, бескомпромиссное следование заповеди непротивления как всеобщему закону жизни. Отсюда и возникает проблема обоснования и оправдания духовного опыта непротивления, соответствующего абсолютному требованию "не противиться злу насилием".
В этом смысле отрицание зла смерти и подведения под это отрицание соответствующего опыта переживания смерти имело для философии непротивления Толстого принципиально решающее значение. От отношения к смерти, характера ее восприятия и переживания напрямую зависит степень обоснованности самопожертвования в акте непротивления злому. Человек, для которого смерть не есть зло, предпочтет скорее отдать свою жизнь или, по крайней мере, рискнуть ею, нежели воспротивиться злу силой. И действительно, у Толстого мы находим прямую взаимосвязь между непротивлением и самопожертвованием. Отвергая аргумент "третьего лица", Толстой, казалось бы, говорит совершенно невозможные, "дикие" вещи: "То, что насильник может убить меня, вас, мою дочь, вашу мать и т. д. ? Да что же тут такого страшного? Умереть мы все можем и должны. А дурного делать мы не должны" 21 . Этот "моральный экстремизм" Толстого может быть понят только на основе "субъективно-общечеловеческого" опыта восприятия и переживания зла смерти.
В целом, опыт восприятия и переживания зла оказался смещенным у Толстого в область зла социального, прежде всего собственности и власти, которые он рассматривает в качестве моральных пороков личности и общества: греха тунеядства и праздности, греха корыстолюбия и богатства, греха властолюбия, соблазна неравенства и соблазна насилия. Причем все эти виды зла преломляются в восприятии Толстого сквозь призму зла семейного. Именно "семейный соблазн" и стал, на наш взгляд, главным источником философии непротивления Толстого - в "горниле" семейной жизни ковался толстовский опыт непротивления злу насилием. Попытаемся вначале доказать и аргументировать нашу мысль, а затем - оценить "масштаб" духовного и жизненного опыта Толстого, его универсальности, т. е. приложения к различным ситуациям жизни.
В "Христианском учении" Толстой подчеркивает, что "семейный соблазн" особенно вреден и коварен, ибо он более всех других соблазнов "оправдывает грехи людей". Вред этого соблазна прежде всего в том, что он более, чем какой-либо другой, усиливает грех собственности, ожесточает борьбу между людьми, возводя в заслугу и добродетель животное чувство любви к своей семье. Особое коварство "семейного соблазна" состоит, по мысли Толстого, в том, что, если любить врагов, чужих, немилых людей можно без осторожности, вполне отдаваясь этой любви, то нельзя так любить семейных, потому что такая любовь ведет к ослеплению и оправданию грехов 22 .
Когда Толстой писал эти строки (1897), он уже в полной мере испытал на себе весь вред и все коварство "семейного соблазна". В его "Дневнике" (24 января 1894 г.) мы находим следующую запись: "Тяжесть от пустой, роскошной, лживой московской жизни и от тяжелых или, скорее, отсутствующих отношений с женой ... Господи, помоги мне. Научи меня, как нести этот крест. Я все готовлюсь к тому кресту, который знаю: к тюрьме, виселице, а тут совсем другой - новый, про который я не знаю, как его нести. Главная особенность и новизна его та, что я поставлен в положение невольного, принужденного юродства, что я должен своей жизнью губить то, для чего одного я живу, должен этой жизнью отталкивать людей от той истины, уяснение которой дороже мне жизни. Должно быть, я дрянь. Я не могу разорвать всех этих скверных паутин, которые сковали меня. И не от того, что нет сил, а оттого, что нравственно не могу; мне жалко тех пауков, которые ткали эти нити" 23 .
В этом "крике души" Толстого о тчетливо просматриваются истоки и причины его духовного и жизненного опыта непротивления. С одной стороны, в этих словах сквозит мысль Христа о том, что "враги человеку домашние его". "Ужасна та духовная стена, которая вырастает между людьми, иногда десятки лет живущими вместе и как будто близкими 24 , - признается Толстой. Но, с другой стороны, именно "домашние", родные, близкие люди по самой сути родства не могут быть "законченными" злодеями, врагами и т. п. Именно родным людям мы склонны прежде всего прощать, терпеть от них обиды, забывать причиненное ими зло и т. д. , и само родство, сама совместная жизнь превращает их "зло" в их "слабость", делает нас как бы соучастниками этого "зла", поскольку нормальный человек не может не чувствовать своей вины в том, что близкий, родной ему человек "плох". Именно на семейной, родственной почве только и могла произрасти известная мысль Толстого: "Злой человек! Негодяй, мерзавец, злодей! Преступник. Страшный! Люди слишком слабы и жалки, для того, чтобы они могли быть злы. Все они хотят быть добры, только не умеют, не могут. Это неумение быть добрым и есть то, что мы называем злым" 25 .
Только родных людей можно жалеть за их зло и видеть в нем не порок, а слабость, неумение быть добрым. "Стало мне ясно, - пишет Толстой, - что в существующем зле не только нельзя обвинять никого, но что именно обвинения людей и делают все зло. Вспомнил Марка Аврелия или Эпиктета (не помню), который говорит, что на делающего зло не только нельзя, не должно сердиться, но его-то и жалеть надо. А тут сердятся на людей, воспи танных в том, что хозяйственность - добродетель, что хорошо на живать, не проматывать отцовское, дедовское ... Надо войти в положение людей и судить людей исходя из того, что мы все люди, все братья, и нам надо судить себя, а не других" 26 .
В этих словах "семейный" исток позиции непротивления Толстого выражен особенно четко. Только отношения братства, взятые из опыта родственных уз, могут служить основой и идеальной моделью, универсальности заповеди непротивления. Об этом весьма красноречиво свидетельствует понимание Толстым сущности христианской нравственности: "Вся христианская мораль в практическом ее приложении сводится к тому, чтобы считать всех братьями" 27 .
В связи с этим вполне обоснованной представляется мысль А . А. Гусейнова о том, что логика толстовского учения о ненасилии определяется исходным принципом (взятым, как мы пытались показать, из опыта семейных, родственных отношений): "человек человеку брат". "Брат не судит брата. Это делает отец. Каин, убивший Авеля, действовал не как брат. Он превысил свою прерогативу, взяв на себя функцию отца". "Если мы приняли тезис о том, что человек человеку - брат, - заключает свою мысль Гусейнов, - что люди равны в их нравственном достоинстве, то уже не эмоциональные, моральные или какие-либо иные соображения, а одна лишь логика, простое требование последовательности мысли требует категорического, абсолютного отказа от насилия. Ненасилие Толстого, осмысленное в качестве интеллектуальной позиции, умещается в один простой силлогизм: Все люди - братья.
Враги (те, кого мы считаем врагами) - люди. Враги - братья" 28 .
Семейная модель человеческих отношений представляется Толстому универсальной и общезначимой также вследствие того, что именно в рамках семейной жизни, родственных связей могут возникать явные отклонения от закона любви, вопиющие нарушения принципов человечности и нравственности, которые в других ситуациях не выглядят столь шокирующими. "Странная вещь, неслыханная мной, - записывает Толстой в "Дневнике" (17 марта, 1907 г.), - это причина нелюбви сыновей к отцам: зависть и соперничество сыновей с отцами" 29 . Толстой намекает здесь на свои отношения с сыном Львом. Для Толстого, последователя Конфуция, даже просто отсутствие "сыновней почтительности" воспринимается как грубое попрание "закона любви". В данном же случае Толстой сталкивается с особым "лукавством" (И . А. Ильин) зла, требующим четко выверенной духовной позиции по отношению к данному злу. "Вчера было письмо от сына Льва, очень тяжелое ... Именно на эти случаи и нужна любовь к Богу-добру, правде, и если не любовь, то не нелюбовь к людям. Удивительное и жалостливое дело - он страдает завистью ко мне, переходящей в ненавис ть. И этому можно и должно радо ваться, как духовному упражнению. Но мне оно еще не под силу, и я вчера был очень плох - долго не мог (да и теперь вряд ли вполне) побороть недоброго чувства осуждения к нему. Соблазн тут тот, что мне кажется главным то, что он мешает мне заниматься моими "важными делами". А я забываю, что важнее того, чтобы уметь добром платить за зло, ничего нет" 30 . Универсальность данного опыта борьбы с лукавством и коварством зла не подлежит сомнению. Человек, прошедший данную школу жизни, переживший зависть самого близкого, родного человека, уже вряд ли окажется безоружным перед чьей-либо завистью. Более того, такой человек найдет и самые адекватные методы борьбы со злом, ибо его опыт восприятия зла исходит из самых глубин зарождения злого чувства: он как бы сам оказывается со-причастен, со-виновен этому злу в силу отношения "отец-сын". В этом смысле толстовский опыт переживания зла, во многом основанный на конфликтных отношениях в семье, вряд ли может быть оценен и охарактеризован как "субъективный", "эгоцентричный", "моралистический" и т. п. , ибо он направлен на преодоление типичных, общезначимых коллизий зла, непосредственно затрагивающих глубинные интересы каждого человека. Точнее всего этот опыт может быть охарактеризован словами самого Толстого: "субъективно-общечеловеческий", переживаемый в единстве разума и сердца. Такой опыт явился не только одним из главных жизненных источников философии непротивления, но и определяющим фактором тактики поведения и всего образа жизни Толстого.
Рассмотрим более подробно связь между опытом семейной жизни Толстого и принципом непротивления злому. Если судить по толстовским "Дневникам" и воспоминаниям людей, близко знавших Толстого в начале 80-х годов, непосредственной причи ной, побудившей его встать на позиции непротивления, явился конфликт собственности в семье Толстого. К этому времени Толстой разочаровывается в благотворительности и приходит к убеждению в необходимости полного избавления от собственности. "Прежде чем делать добро, - пишет он в работе "Так что же нам делать?", - мне надо самому стать вне зла, в такие условия, в которых можно перестать делать зло. А то вся жизнь моя - зло. Я дам 100 тысяч и все не стану еще в то положение, в котором можно делать добро, потому что у меня останутся еще 500 тысяч. Только когда у меня ничего не будет, я буду в состоянии делать хоть маленькое добро" 31 . Толстой приходит к выводу, что именно "собственность есть корень зла". И вместе с тем собственность есть "заблуждение и суеверие". Для обоснования этого тезиса Толстой вновь прибегает к "семейным" аргументам. "Так же, как право собственности на жену, сына, раба, лошадь, есть фикция, которая уничтожается действительностью и только заставляет страдать того, кто верит в нее, потому что жена, сын никогда не будут подчиняться моей воле, точно также и собственность денег и всяких внешних предметов никогда не будут собственностью, а только обманом самого себя и источником страда ний, а собственностью останется только мое тело, то, что всегда подчиняется мне и связано с моим сознанием" 32 .
Толстой ставит перед собой задачу избавиться от "суеверия собственности", раздать имущество и сделаться нищим, подобно Франциску Ассизскому, чтобы иметь право беспрепятственно делать добро.
Очевидно, что если бы Толстой исполнил свое намерение и ушел из Ясной Поляны в середине 80-х годов, то судьба его учения, творчества, его жизнь в целом претерпели бы кардинальный поворот. По мысли Д . С. Мережковского, "великий писатель русской земли должен был сделаться подвижником русского народа - явление небывалое, единственное в нашей культуре ... " 33 . Однако этого не произошло, и Толстой, вместо христианского подвижника, сделался "учителем непротивления". Как это произошло?
Бывают в жизни каждого человека минуты особого значения, замечает Д . С. Мережковский, которые обнаруживают весь смысл его жизни, дают как бы внутренний разрез всей его личности до последних глубин ее сознательного и бессознательного начал. Именно такой минутой в жизни Толстого было его решение раздать имущество. Но вот что странно. Вплоть до этой минуты мы имеем самые подробные дневники его, исповеди, покаяния, признания, которые позволяют следить за каждым движением его сознания и совести. Но тут они вдруг обрываются, и Толстой замолкает. Ясно только одно: он никуда не уходит и остается в семье. О том, что происходило с Толстым в это время, мы узнаем из воспоминаний близких ему людей, в частности брата Софьи Андреевны, - С . А . Берса. "Об отношении к своему состоянию, - пишет Берс, - Лев Николаевич говорил мне, что он хотел избавиться от него, как от зла, которое тяготило его при его убеждениях; но он поступал сначала неправильно, желая перенести это зло на другого, то есть непременно раздать его, и этим породил другое зло, а именно - энергический протест и большое неудовольствие своей жены. Вследствие этого он предлагал ей перевести все состояние на ее имя, и когда она отказалась, он то же, и безуспешно, предлагал своим детям" 34 .
Эти свидетельства косвенно подтверждаются мыслями самого Толстого. Говоря о своем "семейном кресте", Толстой подчеркивает, что он не может разорвать своих семейных уз не потому, что у него "нет сил", но исходя из нравственных принципов, из-за невозможности взвалить зло собственности на плечи других. Толстой не мог, не должен был оставаться в семье; но точно так же он не мог и не должен был и уходить из семьи. Выходом из этой "безвыходной" ситуации и явилась позиция непротивления. "Не желая противиться жене насилием, - пишет тот же Берс, - он стал относиться к своей собственности так, как будто ее не существует, и отказаться от своего состояния, стал игнорировать свою судьбу и перестал им пользоваться, если не считать того, что они живут под кровлею яснополянского дома".
По этому поводу Д . С. Мережковский разражается иронической тирадой: "Как же, однако, "если не считать"? Что это значит? Он исполнил заповедь Христа: покинул и дом, и поля, и детей - "если не считать того", что по-прежнему остался с ними? Он сделался нищим, бездомным, роздал свое имение, "если не считать того", что согласился из боязни огорчить жену, сохранить свое имение? И о каком тут "зле", о каком "насилии над женою" идет речь? Конечно, Христос насилия не проповедовал. Он не требовал, чтобы человек отнимал имение у жены и детей и раздавал его бедным, но он действительно требовал, что если нельзя человеку освободиться иначе от собственности, он покинул бы вместе со своими полями, домом имением и жену, и детей, взял крест свой и шел за Ним, чтобы он, по крайней мере, понял до конца это слово: враги человеку домашние его" 35 .
Тем не менее Толстой выбрал "семейный крест", который оказался более тяжелым, мучительным, чем "крест" подвижничества. Этот выбор и стал для Толстого "крестом" непротивления. И не суть важно, что бескомпромиссность толстовского принципа непротивления была "куплена" ценой его нравственного компромисса с родными и близкими. Оставаясь в семье, Толстой понимал, что он вынужден будет взвалить на себя тот самый груз зла, который он перенес бы на ближних, если бы ушел из дому. Практически до конца дней он обрек себя на "муки собственности". "Все больше и больше почти физически страдаю от неравенства: богатства, излишеств нашей жизни среди нищеты; и не могу уменьшить этого неравенства. В этом тайный трагизм моей жизни" 36 , "Особенно живо чувствовал безумную безнравственность роскоши властвующих и богатых, и нищету и задавленность бедных. Почти физически страдаю от сознания участия в этом безумии и зле" 37 , - такого рода записями пестрят толстовские Дневники 1895-1910 гг. Можно ли представить себе более экстремальный опыт непротивления, чем тот, который выпал на долю Тол стого? Уход из Ясной Поляны, жизнь в народе были бы в данной ситуации самым легким выходом из положения. Оставшись в семье, Толстой поступил последовательно и принципиально, почти до конца дней пронеся "крест" непротивления. Его жизнь в условиях контраста "роскоши" и "нищеты" протекала в самом важном, напряженном, центральном пространстве нравственного бытия. Она позволяла Толстому непосредственно соприкасаться с главными пороками жизни и на собственном опыте находить пути их преодоления, наиболее эффективные способы борьбы с ними. Толстой и сам осознавал смысл этой своей миссии. Принимая осуждения тех, кто обвинял его в непоследовательности, в расхождении учения и жизни, он тем не менее был убежден в том (и пытался доказать это другим), что его пребывание в семье отнюдь не является следствием его компромисса с жизнью; напротив, это закономерный результат отстаиваемой им духовной позиции, определяемой логикой его нравственного развития. "То, что Вы мне советуете сделать, - пишет он одному из своих корреспондентов, - составляет заветную мечту мою, но до сих пор сделать я этого не мог. Много для этого причин (но никак не та, что бы жалел себя); главная же та, что сделать это надо никак не для того, чтобы подействовать на других. Это не в нашей власти и не это должно руководить нашей деятельностью. Сделать это можно и должно только тогда, когда это будет необходимо не для предполагаемых внешних целей, а для удовлетворения внутренних требований духа, когда оставаться в прежнем положении станет так же нравственно невозможно, как физически невозможно не дышать" 38 .
В другом письме Толстой подчеркивает, что причины, удерживающие его от перемены жизни, "вытекают из тех самых основ любви, во имя которых эта перемена желательна" 39 .
Дочь Толстого, Татьяна Львовна, вспоминает, что однажды отец говорил с ней о юродивых, заметив, что эти люди часто умышленно делают вид, что отдаются тому или иному греху, чтобы вызвать за это осуждение ближних. Их цель - развить в себе одну из главных христианских добродетелей - смирение. "И он сказал, что то же самое происходит и с ним, и что он дал людям предлог судить его за то, в чем в действительности он не был виновен" 40 .
И все-таки главной причиной оставалась, на наш взгляд, вера Толстого в то, что он призван кротко нести свой крест непротивления, невинно страдая от непонимания и поношения ближних и "дальних". "Я верю, что перенесение этой жизни и нужно мне" 41 , - писал он в "Тайном" Дневнике (2 июля 1908 г.). А в одной из своих последних записей (26 октября 1910 г.), Толстой признавался: "Все больше и больше тягощусь этой жизнью ... Тер петь ее, терпеть, не изменяя положения внешнего, но работая над внутренним" 42 .
Эта мысль примечательная еще и тем, что она проливает свет на условия формирования толстовского метода борьбы со злом как внутреннего самосовершенствования. Обосновывая бессмыс ле н ность и бесполезность изменения внешних условий, внешнего устройства жизни без изменения устройства души, внутреннего, духовного, Толстой во многом опирается на опыт разрешения семейных конфликтов и коллизий. Ведь отношения в семье невозможно урегулировать только на основе изменения внешних условий жизни, не изменяя принципиально самих себя, своих отношений друг к другу. Вот почему уход из семьи не мог стать для Толстого панацеей от всех зол, снять противоречия его духовной жизни. "Уйти хорошо можно только в смерть" 43 , - эти слова Толстого оказались поистине пророческими: Он не просто "сбежал" от семьи, но именно "ушел в смерть". Поэтому характеристика толстовской позиции непротивления как "морали бегства" (И . А. Ильин) не соответствует, на наш взгляд, истинному положению вещей. Скорее, это "мораль терпения", требующая от человека высших, почти сверхчеловеческих усилий преодоления зла. Неслучайно Толстой, осознавая всю глубину власти привычек над жизнью человека, вынужден был признать: "Трудность главная - семья. Привычки можно преодолеть, но семья ... " 44 .
Примечания
1 Бердяев Н . А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX в. и начала XX в. // О России и русской философской культуре. М., 1990. С. 166.
2 Марсель Г. Быть и иметь. Новочеркасск, 1994. С. 150.
3 Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 24 т. М., 1913. Т. 24. С. 63.
4 Ср. в этой связи его мысль: "Для того чтобы быть услышанным людьми, надо говорить с Голгофы, запечатлеть истину страданием, еще лучше - смертью" (Толстой Л. Н. Дневники 1895-1910 // Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. М., 1985. Т. 22. С. 137).
5 Соловьев B . C . Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории // Соловьев B . C . Соч.: В 2 т. М., 1988. Т. 2. С. 711.
6 Там же. С. 715.
7 Ильин И . А. О сопротивлении злу силою // Ильин И . А . Соч.: В 2 т. М., 1993. Т. 1. С. 348.
8 Ильин И . А. Указ. соч. С. 304.
9 См.: Там же. С. 426-437.
10 Там же. С. 353.
11 Там же. С. 359.
12 Толстой Л. Н. Дневники, 1847-1894 // Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. Т. 21. С. 85.
13 Там же. С. 85-86.
14 См.: Толстой Л. Н. Путь жизни М., 1993. С. 388, 390, 396.
15 Толстой Л. Н. Дневники, 1895-1910. С. 11.
16 Там же. С. 234.
17 Там же. С . 233.
18 См.: Бердяев Н . А. Кошмар злого добра // Путь. 1926. N 4.
19 См.: Ильин И . А. Погребение набальзамированного толстовства (главы из книги "О сопротивлении злу силою") // Вопр. философии. 1992. N 4.
20 См., например, главу 21 "О духовном компромиссе": Ильин И . А. Указ. соч.
21 Толстой Л. H . К вопросу о непротивлении злу насилием // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 24 т. Т. 22. С. 87.
22 См.: Толстой Л. Н. Христианское учение. ї 47, 1-8.
23 Толстой Л. Н. Дневники, 1847-1894. С. 500.
24 Там же. С. 512.
25 Там же. С. 483.
26 Там же. С. 300.
27 Там же. С. 522.
28 Гусейнов А . А. Ненасилие как интеллектуальная позиция // Л. Н. Толстой и традиция ненасилия в двадцатом веке: (Материалы симпозиума). М., 1996. С. 6-7.
29 Толстой Л. Н. Дневники, 1895-1910. С. 241.
30 Там же. С. 239-240.
31 Толстой Л. Н. Так что же нам делать? // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 24 т. Т. 17. С. 61.
32 Там же. С. 191.
33 Мережковский Д . С. Л. Толстой и Достоевский. М., 1995. С. 29.
34 Берс С . А. Воспоминания о графе Л. Н. Толстом (в октябре и ноябре 1891 г.). Смоленск, 1893. Цит. по: Мережковский Д . С. Л. Толстой и Достоевский. С. 27.
35 Мережковский Д . С. Указ. соч. С. 29. Заметим, что именно Толстому, как никому другому, дано было понять и пережить слова Христа "враги человеку домашние его".
36 Толстой Л. Н. Дневники, 1895-1910. С. 247.
37 Там же. С-317.
38 Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Т. 81. С. 104. Письмо от 16 февраля 1910 г.
40 Сухотина-Толстая ТЛ. Воспоминания. М ., 1976. С. 407 -4 08.
41 Толстой Л. Н. Дневники, 1895-1910. С. 284.
42 Там же. С. 424.
43 Там же. С. 284.
44 Там же. С. 257.
Прокопенко И.А.
Этика ненасилия Л.Н.Толстого – одна из интереснейших тем этики. Ведь этика – это «философская наука, объектом изучения которой является мораль. Этика одна из древнейших теоретических дисциплин, возникшая как неотъемлемая, а по мнению многих мыслителей, важнейшая часть философии». Этика, как наука, интересна тем, что она «анализирует социальный механизм морали и ее сторон – природу нравственной деятельности, моральных отношений, морального сознания. Основные элементы моральных отношений, сознания и деятельности обобщаются и отражаются в категориях этики. Особую область составляет изучение структуры морального сознания и его различных форм (Логика морального языка). В тесной связи с перечисленными проблемами рассматриваются вопросы природы моральных ценностей (Аксиология). Этика занимается также конкретно-социологическим исследованием морали в различных типах общества (Дескриптивная этика)». Для нас, будущих педагогов, важно знать, что этика показывает еще и то, «какова роль морального фактора в социальном и духовном развитии общества, в становлении человеческой личности, как этот фактор может быть использован с помощью средств воспитания и социального управления».
Говоря об этике ненасилия Л.Н.Толстого, мы должны учитывать то время, в которое жил великий русский писатель, гордость мировой культуры. Мы должны учитывать общественные, экономические и политические условия того времени, когда создавал свои произведения Л.Н.Толстой.
«Есть художники, у которых жизнь – одно, а творчество – другое. Два суверенных государства, каждое само по себе и они мирно сосуществуют друг с другом…У Толстого жизнь и творчество никогда не были разделены, они были слиты и неотторжимы друг от друга. Но не потому, что искусство поглотило и растворило в себе всю его жизнь, хотя большую часть ее он и провел за письменным столом. Скорее можно сказать, что сама жизнь вторглась у Толстого на территорию искусства и вобрала в себя его так, что оно перестало быть просто искусством… Творчество стало у Толстого прямым продолжением его жизни – как бы его природным органом. Органом выражения и утверждения всего того, во что он не просто верил как в высшую свою правду, как смысл бытия, но что он со всей страстностью своей мощной и цельной натуры стремился воплотить прежде всего в самой жизни», - писал о Льве Николаевиче Толстом литературовед И.Н.Виноградов.
Да, имя Льва Николаевича Толстого всемирно известно. Невозможно даже представить себе, что история большой жизни, прожитой Львом Николаевичем Толстым и его богатая творческая биография может уместиться в огромной, объемистой, в тысячу листов, книге. Его жизнь – это история нашей страны, его душа – это созданные им произведения.
«Л.Н.Толстому было 24 года, когда в лучшем, передовом журнале тех лет - «Современнике» - появилась повесть «Детство». В конце печатного текста читатели увидели лишь ничего не говорившие им тогда инициалы: Л.Н.».
В какой восторг привела читателей эта первая повесть «Детство»! За ней последовали повести «Отрочество и «Юность». Все три произведения стали шедеврами. «Романы и повести, созданные в пору творческого расцвета, не заслонили собой эту вершину».
Уже в первых произведениях великого русского писателя и мыслителя Л.Н.Толстого читатель увидел новизну – это диалектика души и чистота нравственного чувства главного героя трилогии Николеньки Иртеньева. Так внешне «незамысловатое повествование о детстве, отрочестве и юности близкого автору по происхождению и нравственному облику героя, Николеньки Иртеньева, открыло для всей русской литературы новые горизонты». Именно Л.Н.Толстой среди всего богатства художественных средств выбрал именно психологический анализ. Известный писатель-демократ и критик Н.Г.Чернышевский писал: «психологический анализ может принимать различные направления: одного поэта занимает более всего очертания характеров; другого – влияния общественных отношений и столкновений на характеры; третьего – связь чувства с действиями; четвертого – анализ страстей; графа Толстого всего более – сам психологический процесс, его формы, его законы, диалектика души, чтобы выразиться определенным термином».
Л.Н.Толстой создает свое удивительное «Детство», и это вовсе не воспоминание. Это живая история души самого писателя. «То единственное, что им пока нажито и по отношению к нему он и обязан, следовательно, прежде всего самоопределиться теперь, раз уж впервые рискует обратиться со своим «Я» и со своей правдой к другим. Его автобиографическая трилогия и есть такой первый отчет перед собой и другими – кто он, откуда, как видит и за что ценит жизнь. Отчет и одновременно, если угодно, его первое исповедание веры: вот он я, весь перед вами. Здесь я стою и не могу иначе». Прекрасны и глубоки по смыслу слова, сказанные самим Л.Н.Толстым о жизни: «Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым небом? Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобных?»
Свои мысли о ненасилии великий писатель Лев Толстой выражает ясно, твердо, с непреклонностью: да, здесь я стою и не могу иначе. Доказательством этого является произведение «Набег», созданное еще молодым Толстым. Перед нами, в сущности, опять акт духовного самоопределения – но уже по отношению к опыту, не прожитому, а только что пережитому. Опять исповедание веры, обретенной душою такой важной, рядом со смертью, области жизни, как война. Опять целая «эпоха развития», которая потому и потребовала своего выражения в слове, что отложилась в Толстом обретениями, вошедшими в самую сердцевину его духовного «Я», - пишет исследователь толстовского творчества И.И.Виноградов.
Великий мыслитель Л.Н.Толстой, создавая свои произведения, стремился донести до сердца и души своего читателя этику ненасилия. Так было и в тех произведениях, которые были созданы по впечатлениям о заграничной поездке (в 1857 году). Его рассказ «Люцерн», где мы видим богатую толпу, которая, послушав с удовольствием бродячего певца, смеется над ним, и никто ничего не дал этому певцу. Удивительно искренно это произведение великого гуманиста, черта удивительной искренности и правдивости очень важна здесь еще и потому, что делает его тем действеннее и как обращение, как «проповедь». Вот такое отношение жизни и творчества остается у Толстого навсегда. Великий писатель прошел долгий, сложный, противоречивый и вместе с тем очень цельный путь духовного развития, неизменной чертой которого было и остается стремление к предельно полному претворению всего, что добыто его духом, в самое жизнь, в ее плоть и кровь. Он считал, что воздействовать на человека надо прекрасно созданным произведением, в которое писатель вкладывает свои мысли, чувства, вкладывает душу и сердце. Ведь оно отражает то, что хочет автор передать своим читателям. Сам Л.Н.Толстой писал об этом в своем Дневнике 23 марта 1894 года: «Художественное произведение есть то, которое заражает людей, приводит их всех к одному настроению». А воздействовать положительно может это произведение потому, что это само «художественное произведение жизни».
И вот перед нами писатель, «художественное произведение жизни» которого приобретает для нас огромный интерес, становится фактом мировой культуры великого духовного значения. Таков и тот «сюжет» духовных и непосредственно-жизненных исканий Толстого, ставших одним из самых напряженных в его судьбе, основные «повороты» которого достаточно отчетливо запечатлелись в повестях, а «завязкой» является его повесть «Семейное счастье», в которой такие непохожие друг на друга главные герои соединяют свои судьбы. Толстой прекрасно понимает свою героиню Машу всегда, и особенно тогда, когда она с грустью вспоминает как самое счастливое время своей жизни в первые два месяца после свадьбы, которое по толстовскому выражению напоминает не «строгий труд» и не «исполнение долга самопожертвования и жизни для другого», а напротив, «одно себялюбивое чувство любви друг к другу, желание быть любимым». «В этой безоглядной жажде много счастья, удовлетворение которой рождает ни с чем не сравнимое чувство ликующей полноты жизни, есть и своя правда, поэзия и сила. Это сила природной, стихийной жизненности, это поэзия и правда жизненного эгоизма как естественной основы существования всякой личности, которой не дано сознавать и чувствовать себя иначе, чем «отдельным, особенным ото всех» существом… Толстой понимал и чувствовал эту поэзию и правду как редко кто».
Толстого-мыслителя видим мы в его фундаментальном труде – романе-эпопее «Война и мир», он «стал самым светлым его творением, на котором лежит печать какой-то удивительно внутренней, душевной гармонии, словно Толстому открылась сама тайна бытия, и он постиг жизнь во всей ее целостности и красоте». Стоит вспомнить главного героя толстовского романа – князя Андрея Болконского, как он, смертельно раненный, думает о жизни, как его всего заполняет христианская любовь ко всем. Человек, постигая что-то в своей жизни, совершает определенное движение. «Движение человечества, вытекая из бесчисленного количества людских произволов, совершается непрерывно. Постижение законов этого движения есть цель истории. Но для того, чтобы постигнуть законы непрерывного движения суммы всех произволов людей, ум человеческий допускает произвольные, непрерывные единицы». Движение – это сама жизнь, поэтому-то любимые герои Толстого в романе «Война и мир» живут добродетельно, трудятся, отрицательно относятся к праздности. «Библейское предание говорит, что отсутствие труда – праздность – было условием блаженства первого человека до его падения. Любовь к праздности осталась та же и в падшем человеке, но проклятие все тяготеет над человеком, и не только потому, что мы в поте лица должны снискать хлеб свой, но потому, что по нравственным свойствам своим мы не можем быть праздны и спокойны».
Великий гуманист Л.Н.Толстой, пройдя большой жизненный и творческий путь, постоянно находился в исканиях. Писатель жил в то далекое от нас историческое время, поэтому и его противоречия в исканиях его – это отражение самого времени и противоречий того времени. «Духовный кризис, пережитый Толстым, был глубоко связан, несомненно, с противоречиями его эпохи, и поэтому его послекризисное мировоззрение и творчество можно рассматривать как своеобразное «зеркало» этих противоречий». Сам Толстой сознавал этот кризис, глубоко переживая, сам кризис сознавался им самим как отчаянное душевное состояние, вызванное тем, что он никак не мог найти ответа на вопрос: есть ли в жизни что-то такое, что не уничтожалось бы со смертью человека как личности, не теряло свое значение? Есть ли, иначе говоря, неуничтожимый смерть смысл? «И тот ответ, который оказался для него субъективно единственно убедительным (как бы противоречив он ни был по существу, объективно), он нашел в созданном им религиозно-этическом учении. Он нашел этот ответ в признании полной тщеты и бессмысленности всего, связано с существованием человека как существа отдельного, как личности, - всех страстей, целей и стремлений, направленных на утверждение этого существования, все равно кончающегося смертью, нулем, полным исчезновением. И он нашел этот ответ в утверждении того, что только добро, которое мы делаем людям, неуничтожимо, только оно остается после нас и придает нашей жизни такой же бесконечный смысл, как бесконечна жизнь этого мира. Поэтому, как он сам говорил, все его религиозное сознание и сосредоточилось на жизни «для других», на деятельности для осуществления царства добра на земле». Такое отношение к действительности породило совершенно новую ситуацию в духовном мире писателя-гуманиста. С другой стороны, это способствовало усилению толстовской энергии, решительной и бескомпромиссной борьбы со всем тем социальным злом, которое препятствовало утверждению добра на земле, и он стал страстным протестантом и обличителем всех и всяческих неправд в жизни – насилия, эксплуатации, всякого зла. С другой же стороны, мерилом правдивости жизни становится теперь отношение человека к смерти, - лишь тот, кто живет для других, перестает бояться смерти, освобождается от страха перед нею. Очень трудно шел к своей вере великий Толстой. Но чего бы это ему ни стоило, он всегда жил, как верил, а чем жил, о том писал. И это отразилось в последующих творениях гениального писателя. Вот его повесть «Смерть Ивана Ивановича» - художественная и жизненная исповедь. Читаешь его и видишь пустоту и бессмысленность жизни главного героя, жизни только для себя, а не для других. То же самое – жизнь для себя, насилие по отношению к другим, становятся главными мыслями в «Дьяволе», «Крейцеровой сонате». Мы чувствуем, что сердце толстого кровоточит от насилия: он, обращаясь к нам, говорит об этике ненасилия. Читателю надо только распахнуть сердце и душу, чтобы услышать мудрые слова великого гуманиста. А знаменитый толстовский «Хаджи-Мурат» - это одно из любимых творений писателя, которому он посвятил почти десять лет своей жизни! Лев Толстой чувствовал прикосновение к тому, что так дорого ему самому – потребность прикосновения к правде большей, чем правда его учения. Недаром эта повесть часто называется художественным завещанием писателя, да и сам Л.Н.Толстой признавался, что Хаджи-Мурат его «личное увлечение». Для главного героя повести мир ценностей – это мир идеальных ценностей, имеющих характер всеобщих и священных норм, и в этом все дело. И место человека и его призвание – в центре самой жизни, и не надо никакой жестокости, насилия, что подавляет человек, а наоборот – надо ненасилие, доброе дело, чтобы тебя уважали и понимали, даже и после твоей смерти.
И какое бы произведение Л.Н.Толстого мы ни взяли: будь то рассказ, или повесть, или роман, к примеру, «Воскресенье», мы видим, что насилие не приводит к добру, а рождает зло; а вот ненасилие – это путь к тому, чтобы жить во имя других, принося пользу другим и находя для себя еще большую пользу. Вот, как Неклюдов, поступивший неблагородно по отношению к Катеньке Масловой, разрушил и свою, и ее жизнь. Его же насилие его же и наказало, принесло боль и страдания другим. И вот еще произведения великого Толстого – религиозно-философские, особое место среди них занимают трактаты «Исповедь» и «В чем моя вера?» - это страстное обращение писателя к совести, разуму и достоинству людей. «Как бы мы не спорили с Толстым, - пишет критик И.И.Виноградов, – как бы резко не отвергали его «ответы» на поставленные им «вопросы», само отношение Толстого к этим вопросам и к поискам ответов на них не может не отозваться в нашей душе животворным катарсисом ее нравственного обновления. С какой болью шел писатель к своей этике ненасилия и через какую боль ему самому пришлось пройти! Эта боль от разрыва между своей проповедью и обстановкой, в которой он жил. Свою боль он поверял дневникам. Достаточно прикоснуться к ним, чтобы ощутить, насколько трудной и мучительной была внутренняя жизнь этого удивительного человека. Одно из главных направлений, которое жило и в творениях, и в жизни Л.Н.Толстого – это непротивление злу насилием, это кротость, доброта.
«Исповедь» Толстого – это открытая рана толстовской души, «Исповедью» он показывает читателю то, как осмысливает свой жизненный путь, путь к тому, что он считает истиной.
Свою «Исповедь писатель начинает с утверждения, что, потеряв в юности веру, с тех пор долго жил без нее. «Я был крещен и воспитан в православной христианской вере. Меня учили ей и с детства, и во все время моего отрочества и юности. Но когда я 18-ти лет вышел со второго курса университета, я не верил уже ни во что из того, чему меня учили». Но нельзя сказать, что веры не было совсем, она была, но что-то тревожило писателя, хотя сильна вера в совершенство и красоту Природы, в счастье и мир, которые обретает человек в единении с ней. Все это отражали его художественные произведения. Лев Толстой искал в науке объяснения смысла жизни, и в древней, и в новой мудрости искал: в библейской Книге Екклесиаста, в изречениях Будды, в философии Артура Шопенгауэра. Но не находил для себя ответа Л.Н.Толстой. Думая о той славе, которую принесут его произведения, он говорил себе: «Ну хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей мира, - ну и что ж!..» И я ничего и ничего не мог ответить». Для чего же живет человек, в чем его вера? «Еще иначе выразить вопрос можно так: «Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожился бы неизбежно предстоящей мне смертью?» Оказывается, есть этот смысл, его надо искать. Выход был найден, вера была принята как единственное решение. Толстой понимал, что христианство привлекает его только этикой, все прочее казалось лишним, и писатель стремился найти компромисс, он писал: «Ну что ж, церковь, кроме того же смысла любви, смирения, самоотвержения, признает еще и этот смысл догматический и внешний. Смысл этот чужд мне, даже отталкивает меня, но вредного тут нет ничего». И Лев Толстой отказался от Церкви, так и не узнав ее. Были ли в то время церковные богословы. Которые смогли бы вступить в диалог с толстым? По воспоминаниям брата Софьи Андреевны были, но они принадлежали к другой культуре, во многом чуждой его привычному кругу. Ученый В.С.Соловьев, как и Толстой, шел к своей вере, и разум в этой вере стал не помехой, а помощником Соловьева в осмыслении веры. А Л.Н.Толстой? «Лев Николаевич решительно ставил свои положения и затем стремительно развивал их и доводил до возможного конца… Соловьев оставался непоколебимым исповедником святой Троицы и, несмотря на свои молодые годы (ему еще не было тогда тридцати лет), поражал неумолимою логикой и убедительностью». Но Толстой оставался при своем. И дело здесь не столько в разуме. Как в воле, в ее направлении у человека, давно задумавшего создать новую веру. Но по-прежнему писатель хоте, чтобы она называлась христианской. Сущность христианства, сущность Евангелия – в тайне самой личности Христа. Но христианство для Толстого было одним из учений, ценность которого лишь в тех этических принципах, которые роднят его с другими религиями. И все это хочет понять великий мыслитель; «Что в учении есть истина, это мне несомненно». И истину христианского учения писатель понимал по-своему, он писал, спрашивая самого себя: «Есть ли Бог? Не знаю. Знаю, что есть закон моего духовного существа. Источник, причину этого я называю Богом».
В своем трактате «В чем моя вера?» великий писатель, мыслитель, гуманист Л.Н.Толстой пишет: «Я прожил на свете 55 лет и, за исключением 14 или 15 детских, 35 лет я прожил нигилистом в настоящем значении этого слова… Пять лет тому назад я поверил в учение Христа – и жизнь моя вдруг переменилась: мне перестало хотеться того, чего прежде хотелось, и стало хотеться то, что прежде не хотелось… Все это произошло от того, что я понял учение Христа не так, как я понимал его прежде». И как трудно, но настойчиво шел Толстой к учению Христа: «Я не толковать хочу учение Христа, я хочу только рассказать как я понял то, что есть самого простого, ясного, понятного и несомненного, обращенного ко всем людям в учении Христа, и как то, что я понял, перевернуло мою душу и дало мне спокойствие и счастье». Чтобы понять христианство, следует читать Евангелие, а в нем Толстого «умиляло больше всего то учение Христа, в котором проповедуется любовь, смирение, унижение, самоотвержение и возмездие добром за зло», - это то, что читал писатель еще в детстве. В зрелом же возрасте гениальный писатель понял, что церковь не давала ему того, что он ждал от нее: «Я перешел от нигилизма к церкви потому, что сознал невозможность жизни без веры, без знания того, что хорошо и дурно». Толстой хотел увидеть те правила жизни, которые вытекали из христианского учения: «Но церковь давала мне такие правила, которые нисколько не приближали меня к дорогому мне христианскому настроению и, скорее, удаляли от него. И я не мог идти за нею. Мне была нужна и дорога жизнь, основанная на христианских истинах; а церковь мне давала правила жизни, вовсе чуждые дорогим мне истинам. Правила, даваемые церковью о вере в догматы, о соблюдении таинств, постов, молитв, мне были не нужны; а правил, основанных на христианских истинах, не было. Мало того, церковные правила ослабляли, иногда прямо уничтожали то христианское настроение, которое одно давало смысл моей жизни. Смущало меня больше всего то, что все зло людское – осуждение частных людей, осуждение целых народов, осуждение других вер и вытекавшие из таких осуждений: казни, войны и все это оправдывалось церковью. Учение Христа о смирении, неосуждении, прощении обид, о самоотвержении и любви на словах возвеличивалось церковью, и вместе с тем одобрялось на деле то, что было несовместимо с этим учением».
Великий Лев Толстой считал, что «положение о непротивлении злу есть положение, связующее все учение в одно целое, но только тогда, когда оно не есть изречение, а есть правило обязательное для исполнения, когда оно есть закон». Именно по такому закону и жил писатель, человек, мудрец Лев Толстой, но не просто жил, а жил, находясь в постоянном поиске. Люди, живя, называют себя верующими, их смысл жизни – вера. Без веры человеку жить трудно. Поэтому Лев Толстой в своих трактатах и пишет о пути поиска веры, смысла жизни. То, что происходит в этот период времени со Львом Николаевичем Толстым можно назвать по-разному: и заблуждением, и духовным кризисом, и прозрением. Следует помнить о том, что Толстой был личностью, художником, нравственным человеком. И обращение к религии и религиозной философии – явление в ту пору самое обыкновенное, Толстой – не одинок, его исповедальная тяга – эпохальная примета. И его трактаты – это повествование о переживаниях русской души, о череде ее состояний, начиная с сороковых годов. Это глубоко поучительное повествование, позволяющее понять боль титана Толстого за свой народ. Как любит он русский народ! Какое разнообразие героев писателя проходит перед глазами читателя в произведениях Толстого. Вот, к примеру, образы героев Отечественной войны 1912 года в романе «Война и мир» - Тихон Щербатый и Платон Каратаев. В образ представителя из народа, героя народной крестьянской войны, Платона Каратаева вкладывает писатель Толстой всю любовь свою. Главное в характере крестьянина Платона Каратаева – этика ненасилия, вера в жизнь, в бога: «Жизнь есть все. Жизнь есть бог. Все перемещается и движется, и это движение есть бог. И пока есть жизнь, есть наслаждение самосознания божества. Любишь жизнь. Любишь бога. Труднее и блаженнее всего любить эту жизнь в своих страданиях, в безвинности страданий».
Вера – это то, что принимает человек, и каждый ее принимает и понимает по-своему. Толстой пишет: «Я считался чудесным художником и поэтом, и поэтому мне очень естественно было усвоить эту теорию… Вера эта в значение поэзии и в развитие жизни была вера, и я был одним из жрецов ее. Быть жрецом ее было очень выгодно и приятно. И я довольно долго жил в этой вере, не сомневаясь в ее истинности. Но на второй, и в особенности на третий год, такой жизни я стал сомневаться в непогрешимости этой веры и стал ее исследовать. Первым поводом к сомнению было то, что я стал замечать, что жрецы этой веры не всегда были согласны между собою. Одни говорили мы – самые хорошие и полезные учителя, мы учим тому, что нужно, а другие учат неправильно… Все это заставило меня усомниться в истинности нашей веры». И поэтому писатель постоянно в поиске, в движении, а само движение и есть жизнь. Человек мыслит, пока существует. И жизнь его должна быть полезной, нравственной. Сам писатель считал, что социальный порядок будет преображаться по мере оздоровления личной нравственной жизни людей. Но следует отметить, что если отдельный человек лично может простить того, кто причинил ему зло, то социальный закон в этом несовершенном мире должен остаться на принципах справедливости. Заповедь Христа «не судите» относится, как считал Лев Толстой, не к юриспруденции, а к осуждению как нравственному акту. Судопроизводство же по-своему нравственно лишь тогда, когда исходит из незыблемости закона, из правового сознания. Оно имеет дело не столько с внутренним миром человека, с его моралью, сколько с последствиями нравственного зла, проявление которого вынуждено пресекать. И поэтому человек, по мнению Л.Толстого, не должен делать плохо, - «не делай глупостей и тебе будет лучше», по его понятию – это и есть истинное христианство. И под этим знаком писатель Толстой поднимает поистине титанический мятеж против всей культуры и цивилизации в целом. Опрощение, отрицание всех социальных институтов, всего наследия искусства, науки и Церкви. Находя ценное в любых верованиях, Толстой делал лишь исключение для церкви, которую неустанно клеймил, он так понимал, он был сам по себе, а не чьим-то «последователем». Критик и писатель Николай Бердяев, который с благоговением относился к писателю Толстому, признавал, что «всякая попытка Толстого выразить в слове – логизировать свою религиозную стихию порождала лишь банальные серые мысли». Неудача Толстого в этом толковании лишь доказывает, что религии искусственно не создаются, не изобретаются. Здесь и кроется основная причина его конфликта с церковью, его отлучения Синодом. Толстой не только ожесточенно писал о таинствах Церкви, о ее учении, но утверждал, что только его взгляд на понимание христианства истинен. Вскоре после тог, как было обнародовано «определение» Синода, епископ Сергий Страгородский, будущий Патриарх, заявил: «Его не надо было отлучать, потому что он сам сознательно отошел от церкви». И сам Толстой, в своем «Ответе Синоду», хотя и обрушился на синодальное «определение», но все же честно признал его правоту: «То, что я отрекся от церкви, называющей себя православной, это совершенно справедливо». Лишь немногие отчетливо увидели, что Толстой здесь, в своем отречении, механически перенес нравственные заповеди, обращенные к личности, на весь общественный порядок. А полной аналогии, полного соответствия здесь быть не может. Лев Толстой далее, в своем трактате «В чем моя вера?», пытается найти ответ в культуре, в цивилизации. Но его нет, по мнению Толстого: «Тщетно искал я в нашем цивилизованном мире каких-нибудь ясно выраженных основ для жизни. Их нет». Вот откуда толстовская концепция опрощения культуры. В ней действительно есть немало болезненного, но никак нельзя закрывать глаза на то положительное, что несет она в себе. Евангелие сложилось в определенных культурных традициях; и вся история христианства неразрывно связана с творчеством, с искусством. Само учение Толстого – это тоже феномен культуры. Опрощение культуры опасно не менее, чем и бурный рост цивилизации. Русский богослов Борис Титлинов в своей работе «Христианство» графа Толстого и христианство Евангелия» писал: «История представляет нам примеры народов, спускавшихся к низу по ступеням культуры, и всегда это падение культурного уровня сопровождалось духовным «огрублением». Человечество, наносящее себе раны, призвано и исцелять их, ориентируясь на духовные ценности. А возрождение духа едва ли будет возможным на пути самоотрицания культуры.
Толстой жил так, как считал верным, он писал, творил добро, верил в то учение, помогающее ему делать добрые дела, которые останутся после него, после его смерти. Он так и писал: «Я верю в учение Христа, и вот в чем моя вера. Я верю, что благо мое возможно на земле только тогда, когда все люди будут исполнять учение Христа». И его истинная вера звучит в последних строках трактата «В чем моя вера?»: «Только дела истины, внося свет в сознание каждого человека, разрушают сцепление обмана, отрывают одного за другим людей от массы, связанной между собой сцеплением обмана. И вот уже 1800 лет делается это дело. С тех пор, как заповеди Христа поставлены перед человечеством, началась эта работа, и не кончится она до тех пор, пока не будет исполнено все, как и сказал это Христос. Церковь, составлявшаяся из тех, которые думали соединить людей воедино тем, что они с заклинаниями утверждали про себя, что они в истине, давно уже умерла. Но церковь, составленная из людей не обещаниями, не помазанием, а делами истины и блага, соединенными воедино, - эта церковь жила и будет жить. Церковь эта как прежде, так и теперь составляется не из людей, взывающих: Господи! и творящих беззаконие, но из людей, слушающих слова сии и исполняющих их». Прав был Толстой, обвиняя христиан в забвении важнейших нравственных заповедей Евангелия, которые многим казались неосуществимыми и далекими от жизни. Прав был он и в том, что настаивал на сближении общественного порядка с христианским идеалом. Критик Лев Анненский писал, что Толстой был зорок в своем предвидении кровавых событий – первой мировой войны и революций, положивших начало потоку социальных и нравственных катастроф, потрясших человечество. Он отстаивал свои взгляды милосердия и ненасилия – это его этика, взгляды, которые дали ему возможность создать удивительные художественные произведения, религиозно-философские произведения, где главным действующим лицом была сама совесть писателя и гражданина Льва Толстого. Его произведения – это взывания к каждому, кому дорога его родина. Великий гуманист напоминает человеку, что он живет недостойной жизнью, что народы и государства, называющие себя христианскими, отодвинули на задний план нечто исключительно важное в Евангелие.
И пусть религия Толстого объективно не может быть отождествлена с религией Евангелия; остается бесспорным вывод, к которому пришел писатель и человек Лев Толстой: жизнь без веры нельзя, а вера есть подлинная основа нравственности. Если бы случилось так, что Толстой не отвернулся бы от веры в Богочеловечество, от Церкви, его проповедь могла бы обрести бесконечно большую силу действия. Вместо разрушения она бы посеяла созидание. Но произошло иное. И тем не менее, грамотному человеку невозможно не согласиться, что Толстой поистине стал голосом совести России и мира, живым упреком для людей, убежденных, что они живут в соответствии христианскими принципами. Его нетерпимость к насилию и лжи, его протесты против убийств и социальных контрастов, против равнодушия других и бедственного положения других, его этика ненасилия составляют драгоценное в его учении. Нужно быть мудрым, чтобы в ошибках великих людей найти урок для себя, а этим уроком у Толстого был призыв к нравственному возрождению, к поискам веры. Известный публицист и общественный деятель А.Ф.Кони, знавший и любивший Толстого – художника слова и человека так образно. Но довольно точно сказал о месте, которое занимают духовные поиски Л.Н.Толстого: «Путешественники описываю Сахару как знойную пустыню, в которой замирает вся жизнь. Когда смеркается, к молчанию смерти присоединяется еще и тьма. И тогда на водопой идет лев, наполняя своим рыканьем пустыню. Ему отвечает жалобный вой зверей, крики ночных птиц и далекое эхо – пустыня оживает. Так было и с этим Львом. Он мог иногда заблуждаться в своем гневном искании истины, но он заставлял работать мысль, нарушал самодовольство молчания, будил окружающих от сна и не давал им утонуть в застое болотного спокойствия».
Список литературы
- Большой энциклопедический словарь. Под редакцией А.М.Прохорова. – М., 2001.
- Виноградов И.И. Как человеку жить надо? – М.: Советская Россия. 1985.
- Виноградов И.И. Критический анализ религиозно-философских взглядов Л.Н.Толстого. – М., 1981.
- Ивакин И.М. Воспоминание о Ясной поляне. // Лит. наследие, 1961, кн.2.
- Кони А.Ф. Лев Николаевич Толстой // Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников. – М., 1978.
- Словарь по этике. Под ред. А.А.Гусейнова и И.С.Кона. – М.: Политиздат, 1989.
- Толстой Л.Н. Собрание сочинений в 12 томах. – М.: Правда, 1984, т.1-4.
- Толстой Л.Н. Война и мир. Т.1-4. – М.: Просвещение, 1981.
- Толстой Л.Н. Исповедь. В чем моя вера? – Л.: Художественная литература, 1990.
- Толстой Л.Н. Повести. Рассказы. – М.: Советская Россия, 1985.
- Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений в 15 томах. – М., 1947, т.3.
- Хоруженко К.М. Культурология. Энциклопедический словарь. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.
Словарь по этике. Под. ред. А.А.Гусейнова и И.С.Кона. – М.: Политиздат, 1989, стр.420
Там же, стр.423
Там же, стр.423
Толстой Л.Н. Собрание сочинений в 12 томах. – Москва, изд-во «Правда», 1984, т.1, стр.3
Там же, стр.3
Там же, стр.3
Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений в 13 томах. – М., 1947, т.3, стр.423
Виноградов И.И. Как человеку жить надо? – М.: Советская Россия, 1985, стр.4
Виноградов И.И. Как человеку жить надо? – М.: Советская Россия, 1985, стр.10
Там же, стр.12
Толстой Л.Н. Война и мир., т.1-4, -М.: Просвещение, 1981, т.3, стр.200-201
Толстой Л.Н. Война и мир., т.1-4, -М.: Просвещение, 1981, т.2, стр.179
Виноградов И.И. Как человеку жить надо? – М.: Советская Россия, 1985, стр.13
Там же, стр.13
Толстой Л.Н. Исповедь. В чем моя вера? – Л.: Художественная литература, 1990, стр.31
Там же, стр.45
Там же, стр53
Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников. – М., 1978, стр.247-247
Толстой Л.Н. Исповедь. В чем моя вера? – Л.: Художественная литература, 1990, стр.110
Там же, стр.117
Там же, стр. 117-118
Толстой Л.Н. Исповедь. В чем моя вера? – Л.: Художественная литература, 1990, стр.121
Там же, стр.122
Там же, стр.122-123
Толстой Л.Н. Война и мир., т.1-4, -М.: Просвещение, 1981, т.4, стр.121
Бердяев Н. Ветхий и Новый завет в религиозном сознании Л.Толстого. О религии Толстого: сб. статей. - М., 1912, стр.173
Толстой Л.Н. Исповедь. В чем моя вера? – Л.: Художественная литература, 1990, стр.319
Толстой Л.Н. Исповедь. В чем моя вера? – Л.: Художественная литература, 1990, стр.329
Там же, стр.344-345
Кони А.Ф. Лев Николаевич Толстой // Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников. – М., 1978, т.2, стр.196
При реализации проекта использованы средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации № 11-рп от 17.01.2014 г. и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи»
УДК 17.025
ЭТИКА Л.Н. ТОЛСТОГО: ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС
М.Л. Гельфонд
Посвящается определению места и роли идейного наследия Л.Н. Толстого в истории отечественной и мировой философской мысли. Предметом исследования являются типологические характеристики толстовской этики и их интерпретация в трудах современников мыслителя. Также анализируются основные особенности соотношения теоретической и нормативной составляющих в структуре нравственно-религиозного учения Л.Н. Толстого.
Ключевые слова: этика, мораль, философия, религия, разум, вера, смысл жизни, закон, свобода, ненасилие, любовь.
Нравственно-религиозное учение Л.Н. Толстого - философский феномен особого рода, представляющий собой редкий сплав оригинального понимания смысла человеческого существования и уникального способа его практической реализации, онтоаксиологической концептуализации жизни и этико-нормативной стратегии ее преображения. При этом синтетический характер данного учения отнюдь не делает его содержание идейно вторичным, а самобытность - не носит налета наивной восторженности или утопического дилетантизма.
Вся жизнь и творчество мыслителя - трудный путь беспрестанных исканий, свободное творчество не признающего над собой никакой внешней власти, но готового безраздельно подчиниться внутренней власти моральной императивности самодостаточного человеческого духа. Тайна идейного магнетизма учения Толстого, несмотря на всю полярность рождаемых ею восприятий, по-прежнему остается одной из наиболее мощных духовных провокаций как для обыденного морального сознания, так и для этико-философской рефлексии отечественной культуры прошлого и нынешнего столетий. Однако, к сожалению, в фокусе внимания ведущих представителей последней гораздо чаще оказывались лишь отдельные фрагменты толстовского жизнеучения, в то время как вопрос о соотношении его теоретической и нормативной составляющих незаслуженно оставался в тени. Между тем, обнаружение системообразующих начал идейного наследия великого русского писателя могло бы помочь приподнять, наконец, плотную завесу штампов и стереотипов, скрывающую подлинность истоков, смысла и целеполаганий его мысли. Именно отсюда и проистекает основополагающий исследовательский интерес к характеру той корреляции «этики» и «метафизики» в структуре толстовского нравственно-религиозного рассуждения, которую сам мыслитель последовательно определяет как неизменную паритетность, достигаемую посредством сугубо координационного, а отнюдь не на классического - субординационного
Соотнесения ключевых моральных императивов и основных способов их обоснования. Так, метафизика, по Толстому, не обусловливает этику в качестве односторонне определяющей форму и содержание ее нормативности теоретической платформы, а вступает с ней в отношения взаимообусловленности. «Одно, - четко определяет формулу этой взаимозависимости сам мыслитель, - есть следствие и вместе причина другого» . Тем самым Толстым, по сути, задается не привычная для философской этики жесткая зависимость исходно-санкционирующего обоснования определенного комплекса моральных предписаний и их последующего предъявления и кодификации, а принцип взаимодополнительности в отношении основных теоретических посылок и нормативных выводов в рамках его этико-философских построений.
Именно поэтому Толстой не видит необходимости в том, чтобы тратить силы на поиски безупречно-непротиворечивого способа обоснования человеческой нравственности. Он искренне и неизменно, а порой и в ущерб собственной репутации, стремился быть проводником одной генеральной идеи - идеи абсолютной морали, которая может обеспечить единственно реальную возможность обретения абсолютных гарантий бесконечной бытийной универсальности человеческой жизни перед лицом реля-тивирующей все и вся конечности эмпирического существования мира.
Этот особый этически окрашенный «максимализм» Толстого в его оценке качественности человеческого существования, рассмотренный в контексте оппозиционности мыслителя прагматизму современной культуры, становится предметом глубокого исследования в статье С.Е. Юркова «Проблемы современной этики и Л.Н. Толстой» . Автор убедительно демонстрирует преимущества отстаиваемой Толстым парадигмы «абсолютизма этики» как императивно-ценностной стратегии индивидуально-ответственного поведения по отношению к релятивизму общественной морали - конвенциональной тактики общества потребления и конформизма .
Данная диспозиция создает тот эвристически необходимый фон, на котором наиболее отчетливо видно, что мораль для Толстого - отнюдь не легендарная Утопия, достичь берегов которой дано немногим, или спасательный плот, предназначенный лишь для избранных. Мораль для него -не бегство от несовершенства жизни, а сама ее повседневно проживаемая каждым из нас пестрая многоликость будничной действительности, подлинность которой прочно связывается мыслителем с этико-аксиологической константностью ее истинного смысла. Как тонко замечает В.В. Зеньковский, «...в диалектике идейных исканий Толстого самое дорогое и близкое нам не идея «разумного сознания», по существу безличного, а его страстное стремление найти смысл жизни через утверждение нас в Абсолюте» . Говоря иными словами, только осмысленная жизнь подлинна, смысл же ее открывается перед разумным сознанием как
безусловная интерсубъективность и ничем не ограниченная универсальность морального закона.
Именно всеобъемлющий «абсолютизм Толстого» преображает феноменологический хаос пространственно-временного существования индивида во внутренний императивно-ценностный космос его духовного бытия. В этой качественной трансформации жизни, составляющей содержание «духовного рождения» человеческого существа, критики Толстого склонны были видеть его маниакальное стремление лишить бытие какого бы то ни было разнообразия, придав ему уродливую форму закон-нического тоталитаризма, в то время как сам мыслитель неизменно осознавал ее как героический акт духовного тираноборчества - дерзкий вызов, бросаемый человеком онтологическому всевластию смерти от имени своего, утвердившего собственную моральную абсолютность, разумного сознания жизни.
Однако мгновение наивысшего триумфа последнего омрачается неизбежным осознанием им своего познавательно-ценностного бессилия в деле определения положительного содержания моральной нормы и ее перевода в плоскость позитивного нравственного поступка, что является следствием объективной неспособности человека провести окончательно-безупречную демаркацию доброго и злого, а, главное, мыслить и действовать в условиях этой предельно жесткой аксиологической дихотомии, критериальные основания которой неизменно лежат за пределами гносеологической компетенции человеческого разума. От этого безысходного отчаяния наш разум, как ни парадоксально, спасает именно ясное обнаружение им своей сущностной несамодостаточности, компенсировать которую он может, только заключив прочную коалицию с верой и придав ей форму «разумной веры». Единственно же достойным предметом подобной веры и является истинный смысл жизни, т.е. такое его понимание, которое способно придать неустранимой дискретности и неумолимой конечности ускользающей эмпирии человеческого существования статус бесконечного континуума духовного бытия.
Этот, безусловно, добровольный и исключительно равноправный союз разума и веры, с одной стороны, обусловливает очевидно нравственно-религиозный характер толстовского жизнеучения, а с другой, задает особый механизм соотношения в нем теолого-метафизической и этико-нормативной составляющих. Последний во многом обнаруживает явные и глубокие генетические связи с просветительским концептом «истинной религии» и кантовской моделью «религии в пределах только разума», что, тем не менее, не дает оснований уличать Толстого в эпигонстве его аргументации, которая направлена на утверждение тщательно очищенных от суеверий и мистических нелепиц исторических религий положений «истинной религии разума», неизбежно разоблачающих логическую обреченность и постыдное лицемерие любых способов ее церковно-богословской
деформации. Качественное отличие толстовской версии «истинной религии» состоит, прежде всего, в том, что она исходно предназначена для наиболее адекватной репрезентации универсального нравственно-практического жизнепонимания и жизнеучения, ни в коей мере не будучи самоцелью религиозно-философского синтеза мыслителя. Свою задачу он видит в том, чтобы предложить людям прямое, т.е. практически необходимое, моральное руководство в жизни, а не создать отвлеченно-безупречную этико-философскую теорию, ее объясняющую. Мораль призвана оправдать жизнь, а не объяснить или оценить ее - убежден Толстой. В силу этого только та моралистика действительно заслуживает к себе интерес, которая способна без какого-либо дополнительного адаптирования стать стратегией жизни, т.е. предложить универсально-практический способ и форму ее нормативно-ценностной организации.
Именно такой путь жизни открывает для себя и стремится указать всем, способным его услышать и понять, Толстой. В своем искреннем и, одновременно амбициозном желании быть всеми услышанным и адекватно понятым он несомненно и неизбежно пристрастен, если истолковывать этот амбивалентный эпитет в его прямом этимологическом значении - испытывания страсти как предельного накала всех эмоционально-волевых сил человека в его упорном стремлении к достижению поставленной цели и односторонней категоричности оценок всего с ней так или иначе связанного. Эта пристрастность, легко обнаруживаемая внимательным и независимым аналитиком как в постулируемых мыслителем императивно-ценностных принципах своего жизнеучения, так и в характере их аргументации, вместе с тем, исключает любую избирательность и произвольность в суждениях Толстого, что выражается в беспощадной логической последовательности и эвристической прямоте его мысли. Для нее не существует ни аналитических табу, ни аксиологических аксиом, т.е. установок или положений, не подлежащих самостоятельной рациональной проверке каждым сознательным индивидом. Ввиду этого крайне велик соблазн поспешно заключить: пристрастность натуры и образа действий Толстого-человека - антипод универсализма и последовательности мышления Толстого-моралиста. Но так может показаться лишь на первый взгляд и только под углом зрения стереотипно-поверхностной критики. Между тем неожиданно выступает на защиту Толстого С.Л. Франк, «эту критику всегда можно заподозрить в том, что из-за малодушия и лености она, под предлогом практической неосуществимости, избегает неумолимо-строгой последовательности в проведении единственного, признаваемого истинным, морального принципа; сам Толстой постоянно уличал своих противников в такой нравственной и интеллектуальной робости» .
Таким образом, на поверку оказывается, что личность Толстого и генерируемые им идеи - поражающий своей подлинной духовной целостностью и внутренней гармонией экзистенциальный феномен, в структуре
которого возникает устойчиво-неразрывное тождество образа мысли и образа жизни, убеждения и действия, общего нормативного принципа и конкретного поведенческого акта. Подобный - сократический - характер толстовского жизнепонимания и жизнеучения делает этико-философскую позицию мыслителя в одно и то же время,максимально убедительной изнутри и чрезвычайно уязвимой извне. Именно поэтому, на наш взгляд, апологеты Толстого всегда рассуждают внутри толстовской аргументационной модели, бесконечно эксплуатируя фирменную стилистику тавтологично-сти толстовского способа дефинирования ключевых категорий и принципов своей нравственно-религиозной доктрины, а оппоненты мыслителя -без устали призывают посмотреть на нее со стороны - с вершины некой эталонной идейной константы, позволяющей рельефно увидеть как нормативные аномалии, так и аргументационные дефекты толстовской моральной философии. Между тем первые неизбежно демонстрируют свою идейную вторичность, а вторые - впадают в самообман, выдавая собственную точку зрения за безусловный критерий оценки. В итоге Толстой по-прежнему оказывается над схваткой, одиноко возвышаясь над без устали спорящими о нем и его духовном наследии лагерями и оставаясь тем великим идейным провокатором и духовным реформатором нашего времени, который еще ждет достойного идейного противника или способного не раствориться без остатка в грандиозности масштабов его личности и замысла сторонника.
По отношению к этой традиционной диспозиции мнений и оценок роль беспристрастного исследователя выглядит не вполне органичной. Более того, его статус в рамках сложившейся системы когнитивных предпочтений и ценностных приоритетов неизбежно маргинален, ибо он вынужден подвергать деструкции то, что изначально предназначено лишь для целостного восприятия. Причем последнее не исключает аксиологической полярности возможных подходов: моралистика толстовского образца либо всецело принимается, либо столь же тотально отвергается, не предполагая возможности частичной корректировки ее отдельных положений или отвлеченно-нейтрального допущения их логической состоятельности. Про-вокативность нравственно-религиозного жизнеучения Толстого заключается именно в том, что его онто-аксиологические установки и нормативные выводы инициируют, подобно сократической майевтике, мучительно сложный процесс рождения собственной мировоззренческой парадигмы на фоне отказа следовать укоренившимся в общественном сознании поведенческим архетипам и полностью отдаться власти «инерции жизни». Толстой как загадочный даймонион Сократа, т.е. «норма себя развивающей личности» , ставит своих современников и потомков перед крайне неудобным и потому житейски нежелательным для них выбором: продолжать привычно жить согласно требованиям морально устаревшего закона насилия, лицемерно декларируя при этом свою абстрактную привержен-
ность ценностям высшего порядка или, открыто и категорично отвергнув насилие как нравственный анахронизм, начать строить свою жизнь по закону Любви.
Однако в отличие от греческого мудреца Толстой не устраняется от откровенного признания в том, что он выбирает сам и почему. И эта предельная толстовская искренность и вполне сознательная пристрастность становятся главным катализатором той внутренней самоидентификации, в которую неизбежно втягивается любой мыслящий читатель. Именно поэтому добросовестный исследователь, который являет собой ни что иное, как частный случай подобной категории читателей Толстого, вынужден нарушить каноны беспристрастности наблюдателя, взирающего на предмет своих научных изысканий с высоты незаинтересованной объективности универсальных истин и полностью абстрагирующегося тем самым от аргументационной оппозиции критики и апологетики толстовских идей.
Так, к примеру, дихотомия насилия и ненасилия, т.е. его допущения (независимо от целей, форм и пределов) и недопущения, логически исключает какой бы то ни было третий вариант решения, а потому внешней точкой отсчета для оценки идеи непротивления может выступать только позиция ее критиков, в то время как подобным основанием для характеристики последней может быть лишь принцип ненасилия. В этих условиях любой последовательно мыслящий аналитик просто вынужден занять одну из двух возможных позиций, ибо любые попытки избежать подобного духовного самоопределения будут вступать в явное противоречие со всеобщими логическими стандартами человеческого мышления. Иначе говоря, внешним (но, заметим, отнюдь не искомым объективным) критерием оценки теоретико-нормативных построений моралиста может стать только какая-либо иная моралистическая конструкция, что делает подобную аналитическую позицию заведомо произвольной в выборе ее исходных принципов и оснований. Именно поэтому традиционно звучащий в академических кругах призыв взглянуть на моралистику Толстого «со стороны» или отрефлексировать свое отношение к ее императивно-ценностному содержанию в свете неких объективно истинных или общепринятых представлений - на деле оказывается фактически невыполнимым пожеланием ввиду очевидного отсутствия в познавательно-ценностной реальности как первых, так и вторых. Следовательно, для добросовестного аналитика, желающего сохранить независимость своего взгляда на феномен этико-нормативной программы Толстого, остается только одна точка обзора -центр ее аутентичной архитектоники, что позволяет реконструировать и рассмотреть последнюю как уникально-неразделимую идейно-императивную целостность.
Это, на наш взгляд, может означать лишь одно: чтобы понять подлинный замысел моралиста - надо оказаться внутри интеллектуально-ценностной парадигмы его мышления, а не снаружи. Иными словами, вы-
ступить в роли искренне заинтересованного, по-настоящему неравнодушного и способного к сопереживанию человека, а не холодно-бесстрастного в сознании своей аналитической безупречности эксперта, отстраненно созерцающего и без колебаний оценивающего извне драматический накал предельных вопрошаний разума и мучительных терзаний совести мыслителя-моралиста. Причем данная герменевтическая стратегия не имеет ничего общего с заведомой предвзятостью или прямолинейной апологетикой, ибо объективно нет ничего более эвристически беспомощного, интерпретационно поверхностного и сомнительно вторичного, чем толстоведческая литература подобного рода.
Более того, не только откровенно апологетическая, но и преимущественно критическая методика анализа практически ориентированных эти-ко-нормативных программ, к разряду которых, без сомнения, относится и нравственно-религиозное учение Толстого, страдают одним общим пороком: за декларируемым адептами стремлением утвердить значимость идей своего кумира, как, впрочем, и за заявлениями их непримиримых оппонентов о необходимости беспристрастно-критической оценки подобных доктрин, нередко скрываются намерения иного порядка, а именно, различного рода попытки навязать моралисту собственные правила игры и критерии ролевой идентификации своей позиции в этой игре. Можно предположить, что в этой плоскости лежит и одна из причин той, на первый взгляд, необъяснимой полемической апатии Толстого не только в отношении критических выпадов своих идейных противников, но и, что еще более странно, в отношении своих последователей-толстовцев, мысли и действия которых зачастую вызывали у него явное разочарование или острые приступы сарказма. Таким образом, только тот взгляд на духовное наследие Толстого, который свободен от крайностей, как его заведомого неприятия, так и полного растворения в нем, остается единственной аналитической возможностью рассмотреть подлинную сущность идей мыслителя-моралиста, а не их искаженные чужим восприятием копии.
Однако, отправляясь в такого рода путешествие во внутренний духовный космос моралиста, следует помнить, что интеллектуальная увлекательность и идейная значимость подобной экспедиции всегда прямо пропорциональны подлинным масштабам его личности и глубине его моральной рефлексии. Фигура Толстого в этом свете - одна из самых ярких. Оригинальность и цельность его этико-нормативной программы - отражение силы, самобытности и внутреннего единства его натуры и мышления. А это уже - неоспоримая прерогатива гения. Толстой же, как признавали даже самые непримиримые из его идейных противников и самые последовательные из критиков его учения был, помимо прочего, «поистине гениален в своих моральных суждениях, в своей исключительной моральной чуткости» . Он обладал редчайшей способностью не только обнаруживать лицемерие или опасные заблуждения там, где другие не могли или не
хотели их видеть, но и дерзко ставить под сомнение все то, что испокон веков составляло традиционную морально-ценностную аксиоматику человеческого бытия. Именно поэтому Толстой - не просто «гениальный факт в жизни России», ибо факт есть остановка жизни, свидетельство ее безнадежной и печальной конечности, он - был и, главное, продолжает оставаться «как бы историческим зеркалом, средством самодиагноза», позволяющим любому ответственно думающему и действующему индивиду осуществить необходимую духовно-нравственную идентификацию, не утратив в результате ни независимости своего мышления, ни свободы своей воли .
И потому Толстой не нуждается ни в апологетике, ни в агиографии. Он просто не помещается в «прокрустово ложе» этого жанра. По сути своей он - неутомимый искатель, а не самоуверенно-занудливый проповедник, смиренный ученик, а не всезнающий учитель, фигура, олицетворяющая собой скорее трагедию поиска абсолютной истины, нежели победное торжество ее окончательного обретения. Вероятно, по этой причине его самого никогда не волновало общественное признание собственного величия или установление своего авторского приоритета в отношении тех или иных идей идеи. «На свете нет ничего великого, есть правильное и неправильное только» , - записал Толстой в своем дневнике на закате жизни. Тем самым он вполне сознательно завещал всем нам право распоряжаться своим идейным наследием по нашему же усмотрению. Для Толстого важно лишь одно: утвердить ключевую идею абсолютности морали как непреложную истину, практической стратегией жизненной реализации которой может быть только исключающее какое бы то ни было насилие свободное единение в Любви.
При этом важно отдавать себе ясный отчет том, что Толстой не создает этики Любви или метафизики свободы как таковых, он лишь избирает их как наиболее подходящую оболочку для своей этико-нормативной программы, оптимальную форму воплощения и трансляции той генеральной установки, которую предельно лаконично сформулировал Кант: в пространстве морали человек всегда подчинен «только своему собственному и тем не менее всеобщему законодательству» . Реализуя данную установку в своем нравственно-практическом жизнеучении, Толстой вполне осознанно и последовательно конструирует его как особый вариант этики закона, деонтологический ригоризм которой внутренне задается и, одновременно преодолевается очевидностью ее перфекционистского содержания. Это, в итоге, и становится, на наш взгляд, главным поводом для признания подлинной уникальности толстовского жизнеучения как нравственной навигации духовного самосовершенствования человека в условиях исходно очевидного несовершенства мира. Тем самым, Толстой, по существу, предлагает свой собственный, полностью не редуцируемый ни к одному из известных историко-философских прецедентов, способ разре-
шения извечной дилеммы необходимости и свободы, представив их соотношение в этическом измерении - в аспекте неразрывного единства императивной необходимости как формы высшего морального закона и подлинной свободы его содержания как бесконечно-неопределимого совершенства абсолютного идеала, а в метафизическом - в плоскости телеологического тождества блага и истины, т.е. как преодоление относительности свободно-индивидуального выбора блага как цели жизни универсально-интерсубъективной необходимостью осознания безусловности ее истинного смысла.
Однако подобное тождество достижимо только ценой утраты всякой персоналистической дифференцированности в бесконечном единстве Всего, что делает логическое выражение последнего понятийными средствами человеческого мышления если не невозможным, то изначально и существенно ограниченным. Отчетливо понимая это, Толстой с предельной откровенностью, удивительным интеллектуальным смирением и вместе с тем с почти мистической прозорливостью рассуждает на страницах своего дневника: «Надо помириться с тайной, окружающей нас, признать непроницаемость ее и знать, где остановиться в постановке вопросов и в ответах на них», ибо «одинаково ошибочно не отвечать на вопросы метафизические, как и отвечать на все» в условиях, когда «мы можем знать о нашей жизни, назначении и смысле ее ровно, сколько это нам нужно для нашего блага» . Необходимость же объяснения данной зависимости заставляет Толстого выйти за рамки столь органичного его мышлению рационального дискурса и честно признать: «Чтобы жизнь имела смысл, надо, чтобы цель ее выходила за пределы этого мира, за пределы постижимого умом человеческим», а «там, где останавливается разум, то место, к которому он привел и дальше которого идти не может, и есть. истинная вера» . Такая вера, не имеющая ничего общего с гносеологической ущербностью доверия внешнему авторитету, не подрывает основ рациональности, а, напротив, утверждает ее на неизмеримо более прочных основаниях - непосредственного до- или сверхрационального сознания наличия истинной цели и смысла жизни. Он, утверждает Толстой, и есть подлинный предмет и основа веры, из которой, в свою очередь, вытекают все поступки людей. «Вера., - резюмирует мыслитель, - есть то, что содействует делам, а дела - то, что совершает веру.» .
Это означает, что искомым механизмом, интегрирующим теоретическую и императивную составляющие нравственно-религиозного жизне-учения Толстого в уникальную духовно-практическую целостность, является «разумная вера». Именно она методологически обеспечивает заданное единство как исходную нераздельность постижения и реализации истинного смысла человеческой жизни. Эту фундаментальную диспозицию нормативного и метанормативного в религиозно-философских построениях мыслителя наиболее точно реконструирует С.Л. Франк. «Вера в смысл
жизни и потребность устроить и пережить жизнь так, чтобы она имела этот абсолютный смысл, чтобы в каждом ее мгновении сияли лучи вечности, -объясняет он, - эта вера и потребность проникает все учение Толстого...», выражая себя в неразрывной взаимосвязи двух его неотъемлемых элементов, из которых «один касается области практики, другой - области теории, один относится к формам действия, другой - к формам познания» . То есть речь в данном случае напрямую идет о той стратегии человеческого существования, практическим выражением которой служит нормативный эквивалент теоретически проясненного смысла жизни, а способом аутентичной репрезентации - стремление создать «единую истинную и нужную науку. - НАУКУ О ТОМ, КАК ЖИТЬ» .
Таким образом, уникальный толстовский опыт смысложизненных исканий можно рассматривать как модель «духовной науки» , конституирующей жизнь в качестве изначально целостного феномена и одновременно допускающей и обосновывающей возможность рационально критиковать, нормативно регламентировать и адекватно оценивать жизнь, предварительно выработав рационально определенные аксиологические критерии, позволяющие осуществить окончательную демаркацию «истинной» и «ложной» жизни и утвердить непреходящую ценность первой, категорически отвергнув духовно-нравственную достоверность второй. Понять и принять это как данность, не подлежащую произволу парти-кулярно удобных толкований, - и есть та насущно необходимая задача археологии духа, которая должна, наконец, открыть и явить современному миру Толстого - мыслителя, «блестяще непонятого, позабытого под монументом» и почти безнадежно погребенного под толщей идеологических догм и обывательских предрассудков. Последние настойчиво тиражируют персонаж назойливого и деспотичного проповедника, чей образ мысли заведомо неприемлем для просвещенного читателя, а выводы - очевидно сомнительны, догматичны или утопичны. Между тем Толстой не требует от нас ничего невозможного или недопустимого. Он не требует по отношению к себе и своей моральной доктрине ни особого, благоговейного почитания, ни беспрекословного и бездумного подчинения. Он лишь стремится напомнить своим современникам и потомкам о том, что человек ни при каких условиях не должен оказываться слепым орудием в чьих бы то ни было руках, и предложить то средство, которое, по его искреннему убеждению, способно навсегда избавить людей от подобной угрозы. Мы же вправе решать: воспользоваться этим советом или категорически отвергнуть его.
Только так каждый из нас, подобно С.Л. Франку, честно признав, что «почти все мы, с разных точек зрения и по различным мотивам не в силах принять идеи Толстого целиком.», все же сможет найти в себе силы принять неизбежную очевидность: «уважение к самим себе и к гению Толстого требуют, чтобы мы выяснили и обосновали наше отношение к его
мировоззрению; и если мы выполним это добросовестно и вдумчиво, то мы не только поймем, в чем и почему мы не можем сойтись с ним, но мы также яснее разглядим сокровища нетленной правды в его учении, и узнаем, чему мы можем и должны учиться у него» . Лишь тогда идейное наследие Толстого перестанет служить перманентной интеллектуальной провокацией для оттачивающих свое аргументационное мастерство рафинированных полемистов и окажется тем мощным духовным вызовом, на который отечественная культура будет, наконец, вынуждена дать адекватный ответ, способный мобилизовать ее внутренние силы и обнаружить ее скрытые возможности. Именно тогда учение Толстого из эпилога исторически обреченной российской культуры рубежа Х1Х-ХХ столетий превратится в пролог ее подлинного возрождения в наступившем ХХ1 веке.
Список литературы
1. Белый А. Еще раз «Толстой» и еще раз Толстой // Белый А. Душа самосознающая. М.: Канон+, 1999. С. 276-302.
2. Бердяев Н.А. Ветхий и Новый Завет в религиозном сознании Л. Толстого // Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства. Т. 2. М.: Изд-во «Искусство», ИЧП «ЛИГА», 1994. С. 461-482.
3. Булгаков С.Н. Л.Н. Толстой // Булгаков С.Н. Тихие думы. М.: Республика, 1996. С. 234-251.
4. Зеньковский В.В. Л. Толстой как мыслитель (К диалектике его идейных исканий) // Зеньковский В.В. Русские мыслители и Европа. М.: Республика, 1997. С. 300-308.
5. Кант И. Соч.: в 6 т. Т. 4 (1). М.: Мысль, 1965. 544 с.
6. Толстой. Л.Н. В чем моя вера? // Толстой Л.Н. Исповедь. В чем моя вера? / под ред. Г. Галаган. Л.: Худож. лит., 1991. С. 117-345.
7. Толстой Л.Н. Философский дневник. 1901-1910 / сост., вступ. ст. и коммент. А.Н. Николюкина. М.: Известия, 2003. 543 с.
8. Франк С.Л. Лев Толстой как мыслитель и художник // Франк С.Л. Русское мировоззрение. СПб.: Наука, 1996. С. 459-478.
9. Франк С.Л. Нравственное учение Л.Н.Толстого (К 80-летнему юбилею Толстого 28 августа 1908 г.) // Указ. изд. С. 432-440.
10. Франк С.Л. Памяти Льва Толстого // Указ. изд. С. 445-455.
11. Юрков С.Е. Проблемы современной этики и Л.Н. Толстой // Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. Вып. 1. Тула: Изд-во ТулГУ, 2011. С. 92-100.
Гельфонд Мария Львовна, д-р филос. наук, доц., зав. кафедрой, mlgeIfondagmail.com, Россия, Тула, Тульский филиал Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.
ETHICS OF LEO TOLSTOY: TYPOLOGICAL STATUS
The article deals with the definition of the place and role of the ideological heritage of Leo Tolstoy in the history of Russian andforeign philosophical ideas. The article looks into the typological features of the ethics of Leo Tolstoy and their interpretation in the works of the thinker"s contemporaries. The author also analyzes the main features of the theoretical and normative components in the structure of the moral-religious doctrines of Leo Tolstoy.
Key words: ethics, moral, philosophy, religion, intellect, faith, meaning of life, law, freedom, nonviolence, love.
Gelfond Maria Lvovna, Doctor of Philosophy, Associate Professor, Head of Department, mlgelfond@,gmail.com, Russia, Tula, Tula Branch of Plekhanov Russian University of Economics.
КУЛЬТУРА ХРИСТИАНСКАЯ И ФИЛОСОФСКАЯ: ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И ИХ СООТНОШЕНИЯ
В ДРЕВНЕЙ РУСИ
Р.И. Кузнецов
Посвящается исследованию проблем становления и соотношения христианской культуры и философской культуры в Древней Руси.
Ключевые слова: религия, культура, христианская культура, философия, философская культура.
Генезис древнерусской христианской культуры и философии тесно связан с процессом христианизации Киевской Руси, начавшийся в конце Х в. И само слово «философия» и различные его смыслы пришли в древнерусскую культуру вместе первыми христианскими церковнославянскими текстами и еще долгое время вели обособленное существование, не смешиваясь со славяно-русским контекстом. В то время как обрядово-бытовой слой новой религии (новой религиозной культуры), который должен был вытеснить и затем заменить традиционную культовую, ритуальную и бытовую практику, довольно быстро образовал симбиоз с языческой культурой, ее более высокие слои (богословский, догматико-экзегетический) оставались не затронутыми этим симбиотическим процессом. В равной мере это относится и к «философии», и к философской культуре, которая в Х в. в Византии уже перестала рассматриваться в качестве оппонента христианской религиозной культуре и синонима языческой культуры.
1. Выдвигая теорию о наличии множества духовных сущностей – «монад», составляющих первооснову мира, Г. В. Лейбниц становится представителем онтологического …
плюрализма
монотеизма
прагматизма
2. Развитие антропологической проблематики в средневековой философии было связано, в первую очередь, с решением вопроса о …
свободе воли
универсалиях
символе веры
3. Этическая позиция Л. Н. Толстого может быть охарактеризована как этика …
ненасилия
сопротивления злу силой
меньшего зла
4. Определение человека как «политического животного» было сформулировано …
Аристотелем
Платоном
К. Марксом
5. С точки зрения представителей древнеиндийской философской школы локаяты, первоначалами мира являются …
воздух
огонь
вода
земля
6. В традиции немецкой классической философии система субъективного идеализма была создана …
И. Фихте
К. Ясперсом
Г. Гегелем
7. Характерными чертами ведического периода индийской философии являются следующие …
философское мировоззрение не отделяется от мифологического
основные представления о мире представлены в ведах
основной религией Индии является брахманизм
основной религией Индии является буддизм
8. Сущность христианской религии, с точки зрения Л. Фейербаха, заключается в том, что …
человек создает Бога по своему образу и подобию
Бог создает человека по своему образу и подобию
Богочеловек совмещает в личностном единстве всю полноту как божественной, так и человеческой природы
9. Отстаивая самобытность и самостоятельность исторического пути России от Запада, славянофилы указывали в качестве основы русского типа мировоззрения …
православие
славянскую мифологию
космополитизм
евразийство
10. Основоположником теории общественного договора является философ …
Т. Гоббс
Дж. Милль
Аристотель
У. Джеймс
11. Всю философию периода эллинизма пронизывает противоречие между …
универсализмом и индивидуализмом
материализмом и идеализмом
космоцентризмом и теоцентризмом
стоицизмом и эпикуреизмом
12. Существенной чертой философии периода средневековья становится …
теоцентризм
космоцентризм
панлогизм
аристократизм
13. Одним из виднейших представителей римского стоицизма является …
Марк Аврелий
Фома Аквинский
14. Основой общественного прогресса, с точки зрения К. Маркса, является …
материальное производство
наука и разум
духовная культура
правовое сознание
15. Преимущества эмпиризма как универсального метода научного познания отстаивал английский философ …
Ф. Бэкон
Иоанн Дунс Скот
Б. Рассел
16. Воплощением идеи русской самобытности, объединившим в себе жизненный уклад и комплекс морально-нравственных норм, выстроенных на принципах православия, самодержавия и общинности, является, по мнению славянофилов, понятие …
соборности
коммунизма
«третьего Рима»
17. Философы Возрождения решали проблему соотношения Бога и мира с позиции …
неоплатонизма
схоластики
рационализма
18. Основными принципами философии конфуцианства являются …
человеколюбие
следование ритуалу
выполнение долга
принцип недеяния
следование единому пути
труд для всеобщей пользы
19. Учение об идеальном государстве было создано древнегреческим философом …
Платоном
Пифагором
Диогеном Синопским
20. Центральное место в философской системе В.С. Соловьева занимает идея …
всеединства
радикализма
нигилизма
21. Родоначальником французского Просвещения является философ …
Ф. Вольтер
Ж.-П. Марат
П. Гольбах
22. В средневековой философии особенный статус человека в системе мироустройства определяется тем, что он создан …
по образу и подобию Бога
исключительно греховным существом
абсолютно свободным
двуногим и без перьев
23. По И. Канту, сознанию доступны только …
феномены
24. Представителем английского Просвещения, обосновавшим принцип разделения властей, был философ …
Дж. Локк
Б. Рассел
О. Кромвель
25. Христианские представления об истории представлены в сочинении Августина Аврелия …
«О Граде Божьем»
«Сумма теологии»
«Утешение философией»
«Первоосновы теологии»
26. Основные законы и категории идеалистической диалектики были разработаны …
Г. Гегелем
Ф. Энгельсом
П. Гольбахом
Э. Гуссерлем
27. К философам, которые занимались разработкой классификации философских школ в Древнем Китае, относятся …
Сыма Тань
Лю Синь
Конфуций
28. Существенным отличием Античности от последующих этапов развития западноевропейской философии является ее …
синкретизм
рационализм
универсализм
гуманизм
29. Центральным мировоззренческим принципом античной философии является …
космоцентризм
теоцентризм
антропоцентризм
культуроцентризм
30. К числу основных шести даршан относятся …
ньяя
санкхья
миманса
вайшешика
джайнизм
31. Философская система К. Маркса может быть определена как …
диалектический материализм
вульгарный материализм
объективный идеализм
стихийная диалектика
32. Течение русской общественно-политической мысли 40-х гг. XIX в., выступавшее за преодоление исторической отсталости России от стран Западной Европы, получило название …
западничества
историцизма
радикализма
авангардизма
33. Религиозное учение об истории как исполнении Божественного предначертания называется …
провиденциализмом
теоцентризмом
мистицизмом
сотериологизмом
34. Философско-мировоззренческий рационализм исходит из идеи …
благой закономерности
стихийности бытия
отрицания Бога
свободы воли
35. В новоевропейской философии вопрос о первооснове мира решается с помощью понятия …
субстанция
константа
максимум
36. Виднейшим представителем русского религиозного экзистенциализма является философ …
Н.А. Бердяев
А.С. Хомяков
В.С. Соловьёв
Н.Ф. Фёдоров
37. В этике И. Канта всеобщий и необходимый нравственный закон, не зависящий от фактических условий человеческого воления и потому безусловно обязательный к исполнению, получает название …
золотого правила нравственности
общественного договора
концепта
38. Отстаивая идею об особом статусе главы государства, стоящего вне системы обывательской морали, Н. Макиавелли становится родоначальником такого социально-политического течения, как …
реальная политика
сравнительная политология
39. Основными представителями древнекитайской философии даосизма являются …
Лао-цзы
Чжуан-цзы
Кун-Фу-цзы
40. Воздерживаться от суждений призывала античная школа …
скептицизма
стоицизма
неоплатонизма
41. С точки зрения Ж.-Ж. Руссо, индивид, не испорченный условностями и предрассудками культуры, называется …
естественным человеком
цивилизованным человеком
вежливым человеком
циничным человеком
42. Оформление философии в строгую систему научного знания было осуществлено в …
немецкой классической философии
Новое время
творчестве Аристотеля
43. Основоположником философской школы неоплатонизма является …
Плотин
Тертуллиан
Аристотель
44. В центре внимания древнегреческой натурфилософии стоит вопрос о(об) …
первоначале
отношении Бога и мира
сущности человека
отношении природы и общества
45. С точки зрения средневекового ревеляционизма, Истина открывается человеку посредством …
откровения
умопостигаемых идей
интеллектуальной интуиции
чувственного опыта
46. Критическая философия И. Канта направлена на обоснование первичности …
субъекта
идеальной субстанции
материальной субстанции
47. Главное препятствие к счастью Л. Фейербах усматривает в …
отчуждении человеческой сущности
разуме, мыслящем Я
чувственной природе человека
природной необходимости
48. Н. Я. Данилевский, предвосхитивший теории локальных цивилизаций О. Шпенглера и А. Тойнби, является создателем теории …
культурно-исторических типов
пассионарности
общественно-экономических формаций
ноосферы
49. Философское учение, отождествляющее Бога и мир, называется …
пантеизмом
креационизмом
атеизмом
50. Основоположником рационалистического метода в новоевропейской философии становится философ …
Р. Декарт
Б. Паскаль
51. Начало спору между славянофилами и западниками положила публикация «Философических писем» …
П. Я. Чаадаева
А. С. Хомякова
А. Н. Радищева
А. С. Пушкина
52. Исходным принципом философии Г. Гегеля является …
тождество бытия и мышления
агностицизм
механистический детерминизм
дуализм мышления и воли
53. «Нет ничего в разуме, чего не было бы прежде в чувствах», утверждают сторонники …
сенсуализма
рационализма
иррационализма
интуитивизма
54. Идейное движение эпохи Возрождения, отстаивающее уважение достоинства и прав человека, его ценность как личности, получает название …
гуманизма
либерализма
антроподицеи
секуляризации
55. Создателем первой философской системы в истории русской философии является …
В. С. Соловьев
М. В. Ломоносов
А. И. Герцен
А. Ф. Лосев
56. Центральной проблемой в философии Нового времени является …
разработка научного метода
вопрос о соотношении веры и разума
доказательство отсутствия центра во Вселенной
диалектика абсолютной и относительной истины
57. Переосмысление идеалистической диалектики Г. Гегеля с позиции материализма было осуществлено …
К. Марксом
Ф. Шеллингом
О. Контом
Гераклитом
58. Одним из ярчайших представителей русского Просвещения является …
А. Н. Радищев
В. Мономах
И. В. Киреевский
59. Направление в средневековой схоластике, утверждавшее реальное (физическое) существование вещей и признававшее общие понятия лишь именами вещей, называется …
номинализмом
теодицеей
универсализмом
реализмом
60. Характерной чертой немецкой классической философии является …
антропосоциоцентризм
иррационализм
материализм
теоцентризм
61. Достаточным условием нравственного действия, по Сократу, является …
знание добра
стремление к цели
познание природы вещей
отказ от чувственных удовольствий
62. Утверждая, что «свобода есть осознанная необходимость», Б. Спиноза становится на позицию …
детерминизма
волюнтаризма
индетерминизма
либерализма
63. Основоположник русского космизма Н. Ф. Федоров под философией общего дела понимал …
проект воскрешения мертвых
проект строительства коммунизма
русское мессианство
дело социалистической революции
64. Этическая концепция Эпикура может быть обозначена термином «__________».
эвдемонизм
аскетизм
прагматизм
утилитаризм
65. Реализм и номинализм – направления в средневековой схоластике, решающие проблему …
универсалий
отношения Бога и мира
соотношения веры и разума
цели и смысла истории
66. Попытка синтеза философии и искусства была предпринята представителем немецкой классической философии …
Ф. Шеллингом
М. Хайдеггером
67. Появление первых оригинальных философских текстов на Руси относят к …