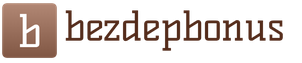Жан бодрийяр. симулякры и симуляция или "библия матрицы"
Симулякры и симуляция
Жан Бодрийяр
Кофе с мудрецами
«Симулякры и симуляция» – последняя работа выдающегося философа-постмодерниста, культуролога и социолога Жана Бодрийяра. Самая полная и доступная для восприятия книга подобной тематики, с которой можно начинать погружение в мир современной философии. Автор дает наиболее развернутые определения таким понятиям, как «гиперреальность» и «симулякры», давно уже вошедших в массовый обиход.
Это произведение помогло множеству людей по всему миру взглянуть на нашу реальность с принципиально иной стороны, с позиции признания ее фиктивной, поддельной, «копией копии», иллюзорной субстанцией, а также вдохновила кинематографистов на создание культового фильма «Матрица».
Ж. Бодрийяр
Симулякры и симуляция
JEAN BAUDRILLARD
SIMULACRES ET SIMULATION
© Copyright by EDITIONS GALILEE 1981
© Перевод, редактура. Качалов А., 2011
© Издание на русском языке, перевод на русский язык. ООО Издательский дом «ПОСТУМ»,2014
© Оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2017
Прецессия симулякров
Симулякр – это вовсе не то, что скрывает собой истину, – это истина, скрывающая, что ее нет.
Симулякр есть истина.
Экклезиаст
Даже если бы мы могли использовать как наилучшую аллегорию симуляции фантастический рассказ Борхеса, в котором имперские картографы составляют настолько детальную карту, что она в конце концов покрывает точно всю территорию (однако с упадком Империи эта карта начинает понемногу истрепываться и распадается, и лишь несколько клочьев еще виднеются в пустынях – метафизическая красота разрушенной абстракции, соизмеримой с масштабами претенциозности Империи, абстракции, которая разлагается как мертвое тело и обращается в прах, – так и копия, подвергшаяся искусственному старению, в конце концов начинает восприниматься как подлинник), – все равно эта история для нас уже в прошлом и содержит в себе лишь скромный шарм симулякров второго порядка.
Абстракция сегодня – это не абстракция карты, копии, зеркала или концепта. Симуляция – это уже не симуляция территории, референциального сущего, субстанции. Она – порождение моделей реального без оригинала и реальности: гиперреального. Территория больше не предшествует карте и не переживает ее. Отныне карта предшествует территории – прецессия симулякров, именно она порождает территорию, и если вернуться к нашему фантастическому рассказу, то теперь клочья территории медленно тлели бы на пространстве карты. То здесь, то там остатки реального, а не карты продолжали бы существовать в пустынях, которые перестали принадлежать Империи, а стали нашей пустыней. Пустыней самой реальности.
На самом деле даже в перевернутом виде рассказ Борхеса не пригоден для использования. Остается, пожалуй, лишь аллегория об Империи. Ведь современные симуляторы прибегают к такому же «империализму», когда стараются совместить реальное – все реальное – со своими моделями симуляции. Однако речь уже не о карте и не о территории. Кое-что исчезло: суверенное различие между одним и другим, то, что составляло шарм абстракции. Ведь именно различие создает поэзию карты и шарм территории, магию концепта и очарование реального. Эта имажинерия репрезентации, которая достигает наивысшей точки и вместе с тем падает в пропасть в безумном проекте картографов достичь идеальной соразмерности карты и территории, исчезает в симуляции, действие которой ядерное и генетическое, а отнюдь не зеркальное и дискурсивное. Исчезает целая метафизика.
Нет больше зеркальности между бытием и его отображением, между реальным и его концептом. Нет больше воображаемой соразмерности: измерением симуляции становится генетическая миниатюризация. Реальное производится на основе миниатюрнейших ячеек матриц и запоминающих устройств, моделей управления и может быть воспроизведено неограниченное количество раз. Оно не обязано более быть рациональным, поскольку оно больше не соизмеряется с некоей, идеальной или негативной, инстанцией. Оно только операционально. Фактически это уже больше и не реальное, поскольку его больше не обволакивает никакое воображаемое. Это гиперреальное, синтетический продукт излучения комбинаторных моделей в безвоздушном гиперпространстве.
В этом переходе в пространство, искривление которого больше не является ни искривлением реального, ни искривлением истины, эра симуляции открывается, таким образом, через ликвидацию всех референтов, хуже того – через искусственное воскрешение их в системах знаков, материале еще более гибком, чем смысл, поскольку он предлагает себя всяческим системам эквивалентности, всяческим бинарным оппозициям, всяческой комбинаторной алгебре. Речь идет уже не об имитации, не о дублировании, даже не о пародии. Речь идет о субституции, подмене реального знаками реального, то есть об операции по апотропии всякого реального процесса с помощью его операциональной копии, идеально дескриптивного, метастабильного, программированного механизма, который предоставляет все знаки реального, минуя любые перипетии. Больше никогда реальное не будет иметь возможности проявить себя – такова витальная функция модели в летальной системе или, вернее, в системе заблаговременного воскрешения, которое больше не оставляет никакого шанса даже самому событию смерти. Отныне гиперреальное экранировано от воображаемого и от какого-либо различения между реальным и воображаемым, оставляя место лишь орбитальному самовоспроизведению моделей и симулированному порождению различий.
Божественная ирреферентность образов
Прибегать к диссимуляции – это значит делать вид, что вы не имеете того, что у вас есть. Симулировать – это значит делать вид, что у вас есть то, чего вы не имеете. Одно отсылает к наличию, другое – к отсутствию. Но дело осложняется тем, что симулировать не означает просто притворяться: «Тот, кто прикидывается больным, может просто лечь в кровать и убеждать, что он болен. Тот, кто симулирует болезнь, вызывает у себя ее некоторые симптомы» (Литтре). Таким образом, притворство, или диссимуляция, оставляет нетронутым принцип реальности: различие всегда явно, оно не замаскировано. Симуляция же ставит под сомнение различие между «истинным» и «ложным», между «реальным» и «воображаемым». Болен или не болен симулянт, который демонстрирует «истинные» симптомы? Объективно его нельзя считать ни больным, ни здоровым. Психология и медицина останавливаются здесь перед истинностью болезни, которую с этих пор невозможно установить. Ведь если можно «вызвать» любой симптом и его нельзя трактовать как естественный факт, то тогда любую болезнь можно рассматривать как такую, которую можно симулировать и которую симулируют, и медицина теряет свой смысл, поскольку знает только, как лечить «настоящие» болезни, исходя из их объективных причин. Психосоматика совершает сомнительные пируэты на границе принципа болезни. Что касается психоанализа, то он переносит симптом органического порядка в порядок бессознательного и последнее снова полагает «истинным», более истинным, чем первое, – но от чего бы симуляция должна остановиться на пороге
Страница 2 из 16
бессознательного? Почему «работу» бессознательного нельзя «подделать» таким же образом, как любой симптом в классической медицине? Сны, например, уже можно.
Конечно, психиатрия утверждает, что «каждая форма психического расстройства имеет особый порядок развития симптомов, о котором не знает симулянт и отсутствие которого не сможет ввести в заблуждение психиатра». Это утверждение (датированное 1865 годом) необходимо, лишь бы любой ценой спасти принцип истинности и избежать проблемы, которую ставит симуляция, а именно: истина, референция, объективная причина перестали существовать. Что может сделать медицина с тем, что колеблется на самой грани болезни и здоровья, с дублированием болезни в дискурсе, который больше не является ни истинным, ни ложным? Что может сделать психоанализ с дублированием дискурса бессознательного в дискурсе симуляции, который нельзя больше разоблачить, поскольку он также не является ложным?
Что может сделать с симулянтами армия? По обыкновению их разоблачают и наказывают в соответствии с четким принципом идентификации. Сегодня могут освободить от воинской повинности очень ловкого симулянта точно так же, как «истинного» гомосексуалиста, сердечника или сумасшедшего. Даже военная психология избегает картезианской четкости и не решается проводить различие между ложным и истинным, между «поддельным» и аутентичным симптомами. «Если симулянт так хорошо изображает сумасшедшего, то это потому, что он им и является». И здесь военная психология не так уж и ошибается: в этом смысле все сумасшедшие симулируют, и это неразличение является наихудшей разновидностью субверсии. Это именно то, против чего и вооружился классический ум всеми своими категориями. Но это то, что сегодня вновь обходит его с флангов, угрожая принципу истинности.
После медицины и армии, излюбленных территорий симуляции, исследование ведет нас к религии и симулякру божественности: «Я запретил в храмах изображать всяческое Свое подобие (симулякр), ведь Творец, одухотворивший всю природу, Сам не может быть воспроизведен». Как бы не так. Однако чем становится божество, когда предстает в иконах, когда множится в статуях (симулякрах)? Остается ли оно высшей инстанцией, лишь условно запечатленной в образах наглядного богословия? Или исчезает в симулякрах, которые сами проявляют себя во всем блеске и мощи фасцинации, – зримая машинерия икон подменяет при этом чистую и сверхчувственную Идею Бога? Именно этого боялись иконоборцы, чей тысячелетний спор продолжается и сегодня. Именно из предчувствия этого всемогущества симулякров, этой их способности стирать Бога из сознания людей и этой разрушительной, убийственной истины, которую они собой заявляют – что, в сущности, Бога никогда не было, что всегда существовал лишь его симулякр или даже что сам Бог всегда был лишь своим собственным симулякром, – и происходило то неистовство иконоборцев, с которым они уничтожали иконы. Если бы они могли принять во внимание, что образы лишь затеняют или маскируют платоновскую Идею Бога, причин для уничтожения не существовало бы. С идеей искаженной истины еще можно ужиться. Но до метафизического отчаяния иконоборцев довела мысль, что иконы вообще ничего не скрывают, что по сути это не образа, статус которых определяет действие оригинала, а совершенные симулякры, непрерывно излучающие свои собственные чары. Поэтому и необходимо было любой ценой предотвратить эту смерть божественной референтности.
Отсюда следует, что иконоборцы, которых обвиняют в пренебрежении и отрицании образов, на самом деле знали их истинную цену, в отличие от иконопоклонников, которые видели в них лишь отображение и удовлетворялись тем, что поклонялись такому филигранному Богу. Можно, однако, рассуждать в обратном направлении, тогда иконопоклонники были наиболее современными и наиболее предприимчивыми людьми, ведь они под видом испарения Бога в зеркале образов уже разыгрывали его смерть и его исчезновение в эпифании его репрезентаций (о которых они, возможно, знали, что те больше ничего не репрезентируют, являясь лишь чистой игрой, однако именно в этом и состояла большая игра – они знали также и то, что разоблачать образы опасно, ведь они скрывают, что за ними ничего нет).
Таков был подход иезуитов, которые строили свою политику на виртуальном исчезновении Бога и на внутримирском и зрелищном манипулировании сознанием людей, – на исчезновении Бога в эпифании власти, означающем конец трансцендентности, которая служит отныне лишь алиби для стратегии, абсолютно независимой от каких-либо влияний и критериев. За вычурностью образов скрывался серый кардинал политики.
Таким образом, ставка всегда была на смертоносную силу образов, смертоносную для реального, смертоносную для собственных их моделей, как возможно были смертоносными для божественной идентичности византийские иконы. Этой смертоносной силе противостоит сила репрезентации как диалектическая сила, очевидное и умопостигаемое опосредование Реального. Вся западная вера и аутентичность делали ставку на репрезентацию: на то, что знак способен отражать сокровенный смысл, что он способен обмениваться на смысл, и то, что существует нечто, что делает этот обмен возможным, гарантирует его адекватность – это, разумеется, Бог. Но что, если и самого Бога можно симулировать, то есть свести к знакам, удостоверяющим его существование? Тогда вся система теряет точку опоры, она сама становится не более чем гигантским симулякром – не тем, что вовсе оторвано от реальности, а тем, что уже никогда не обменивается на реальное, а обменивается на самое себя в непрерывном круговороте без референта и предела.
Такова симуляция в своем противопоставлении репрезентации. Репрезентация исходит из принципа эквивалентности реального и некоего «представляющего» это реальное знака (даже если эта эквивалентность утопическая, это фундаментальная аксиома). Симуляция, наоборот, исходит из утопичности принципа эквивалентности, из радикальной негации знака как ценности, из знака как реверсии, из умерщвления всякой референтности. В то время как репрезентация пытается абсорбировать симуляцию, интерпретируя ее как ложное, «поврежденное» представление, симуляция охватывает и взламывает всю структуру репрезентации, превращая представление в симулякр самого себя.
Таковы последовательные фазы развития образа:
Он отражает фундаментальную реальность;
Он маскирует и искажает фундаментальную реальность;
Он маскирует отсутствие фундаментальной реальности;
Он вообще не имеет отношения к какой бы то ни было реальности, являясь своим собственным симулякром в чистом виде.
В первом случае образ – доброкачественное проявление: репрезентация имеет сакраментальный характер. Во втором – злокачественное: вредоносный характер. В третьем случае он лишь создает вид проявления: характер чародейства. В четвертом речь идет уже не о проявлении чего-либо, а о симуляции.
Переход от знаков, которые скрывают нечто, к знакам, которые
Страница 3 из 16
скрывают, что за ними нет ничего, обозначает решительный поворот. Если первые отсылают к теологии истины и тайны (что все еще является частью идеологии), то вторые открывают эру симулякров и симуляции, когда уже не существует Бога, чтобы распознать своих, и Страшного суда, чтобы отделить ложное от истинного, реальное от его искусственного воскрешения, потому что все уже умерло и воскрешено заблаговременно.
Когда реальное больше не является тем, чем оно было, ностальгия присваивает себе все его смысловое содержание. Переизбыток мифов об истоках и знаках реального. Переизбыток вторичной истины, вторичной объективности и аутентичности. Эскалация истинного, пережитого, воскрешение образного там, где исчезли объект и субстанция. Необузданное производство реального и референциального, аналогичное и превосходящее необузданность материального производства: так симуляция проявляется в фазе, которая непосредственно затрагивает нас в виде стратегии реального, неореального и гиперреального, повсеместно дублируемой стратегией апотропии.
Рамсес, или Воскрешение в розовом цвете
Этнология прикоснулась к своей парадоксальной смерти в тот день 1971 года, когда правительство Филиппин решило вернуть к первозданности, туда, где до них не доберутся колонисты, туристы и этнологи, несколько десятков тасадаев, которых незадолго до этого обнаружили в дебрях джунглей, где они прожили восемь столетий без каких-либо контактов с остальным человечеством. Это было сделано по инициативе самих антропологов, которые видели, как при контакте с ними туземцы сразу как бы разлагались, словно мумии на свежем воздухе.
Для того чтобы этнология продолжала жить, необходимо, чтобы умер ее объект, который, умирая, мстит за то, что его «открыли», и своей смертью бросает вызов науке, которая пытается овладеть им.
Разве не живет любая наука на этом парадоксальном склоне, на который ее обрекают исчезновение ее объекта в тот самый момент, когда она пытается овладеть им, и безжалостная реверсия, которую она получает со стороны мертвого объекта? Подобно Орфею, она постоянно оборачивается слишком рано, и подобно тому, как это было с Эвридикой, ее объект снова низвергается в ад.
Именно от этого адского парадокса хотели уберечь себя этнологи, снова создавая вокруг тасадаев границу безопасности в виде девственного леса. Никто более не будет их беспокоить: рудник с золотоносной жилой закрыт. Наука теряет на этом целый капитал, но потерянный для нее объект остается неповрежденным, нетронутым в своей «девственности». Речь идет не о жертве (наука никогда не жертвует собой, она всегда смертоносна), а о симулированной жертве ее объекта с целью спасения принципа реальности. Тасадаи, замороженные в своем естественном состоянии, будут служить ей абсолютным алиби, вечной гарантией. Здесь и начинается бесконечная антиэтнология, которую в разной степени исповедуют Жолен, Кастанеда, Кластр. Как бы там ни было, но логическая эволюция науки состоит во все большем отдалении от своего объекта, пока она не начинает обходиться без него вовсе: ее автономия становится от этого еще более фантастичной, она достигает своей чистой формы.
Вот так сосланный в резервации индеец, в своем стеклянном гробу девственного леса, снова становится симулятивной моделью всех возможных индейцев времен до этнологии.
Благодаря такой модели этнология позволяет себе роскошь воплощаться вне своих границ, в «грубой» действительности этих перевоссозданных ею индейцев – дикарей, которые лишь благодаря этнологии остаются дикарями: какой зеркальный поворот, какое торжество науки, которая, как казалось, была обречена истреблять их!
Конечно же такие дикари – это посмертные создания: замороженные, крионированные, стерилизованные, защищенные от смерти, они стали референциальными симулякрами, и сама наука стала чистой симуляцией. То же самое происходит в Крезо, в пределах экологического музея, где на месте событий музеефицировали как «исторических» свидетелей своей эпохи целые рабочие кварталы, действующие металлургические зоны, сразу целую культуру, мужчин, женщин, детей, вместе с их жестами, манерой разговаривать, обычаями, – все это воспринимается как живые окаменелости, как стоп-кадр. Музей, перестав быть геометрически ограниченным местом, теперь повсюду – как еще одно жизненное измерение. Так и этнология, вместо того чтобы ограничить себя как объективную науку, теперь, освободившись от своего объекта, будет распространяться на все живое и будет становиться невидимой, как вездесущее четвертое измерение – измерение симулякра. Мы все тасадаи – индейцы, которые благодаря этнологии вновь стали тем, чем они были, – индейцы-симулякры, которые наконец провозглашают универсальную истину этнологии.
Мы все заживо пропущены сквозь призрачный свет этнологии, или же антиэтнологии, которая является лишь чистой формой торжествующей этнологии, под знаком уничтожения различий или же их восстановления. Поэтому очень наивно искать этнологию среди дикарей или где-то в странах «третьего мира» – она здесь, повсюду, в метрополиях, среди белых людей, в целом мире, идентифицированном, проанализированном, а затем искусственно воскрешенном под видом реального, в мире симуляции, галлюцинации истины, шантажа реального, умерщвления любой символической формы и ее истеричной исторической ретроспекции – умерщвления, первыми жертвами которого (положение обязывает) стали дикари, но которое уже давно распространилось на все западное общество.
И вместе с тем этнология дает нам свой единственный и последний урок, открывая тайну, которая убивает ее (и о которой дикари знают гораздо лучше ее): месть мертвых.
Ограничение объекта науки эквивалентно ограничению сумасшедших и мертвых. Точно так же, как целый социум непоправимо заражен тем зеркалом безумия, которое он сам поставил перед собой, так и науке остается лишь умереть, заразившись смертью своего объекта, который является ее обратным зеркалом. Наука якобы овладевает объектом, но на самом деле это он проникает в нее, в какой-то бессознательной реверсии, давая лишь пустые и повторяющиеся ответы на пустые и повторяющиеся вопросы.
Ничего не меняется – ни когда социум разбивает зеркало безумия (упраздняя психбольницы, возвращая право голоса сумасшедшим и т. д.), ни когда наука якобы разбивает зеркало своей объективности (растворяясь в собственном объекте, как у Кастанеды, и т. д.) и склоняется перед «различиями». Форму ограничения сменяет бесконечно дифрагированный демультиплицированный диспозитив. По мере того как этнология разрушается как классический институт, она перерождается в антиэтнологию, чьей задачей является инъецировать повсюду псевдоразличие, псевдодикаря, с тем чтобы скрыть, что именно этот, наш мир стал на свой манер диким, уничтожив различение и смерть.
Таким же образом под предлогом сохранения оригинала посетителям запретили доступ в гроты Ласко, но в пятистах метрах построили их точную копию, так что каждый может увидеть их (взглянуть через глазок на часть настоящего грота, а потом посетить реконструкцию всего остального). Возможно, что сама память об оригинальных гротах постепенно исчезнет из
Страница 4 из 16
сознания будущих поколений, и тогда различий не останется: дублирования достаточно, чтобы оба объекта стали одинаково искусственными.
Вот так же вся наука и технология не так давно мобилизовались, чтобы спасти мумию Рамсеса II, которая несколько десятилетий гнила в запасниках музея. Запад охватила паника при мысли, что он не сможет сохранить то, что символический порядок смог сберечь на протяжении сорока столетий вдали от людского взора и солнечного света. Рамсес ничего не значит для нас, только его мумия не имеет цены, поскольку она – гарант того, что накопление имеет хоть какой-то смысл. Вся наша линейная и накопительная культура рушится, если мы не сможем сохранить прошлое при свете дня. Для этого нужно извлечь фараонов из их гробниц, а мумии – из их безмолвия. Для этой цели необходимо эксгумировать их и отдать им воинские почести. Они одновременно являются добычей науки и червей. Один лишь абсолютный секрет наделял их тысячелетней властью – господство над тленом, которое означало господство над полным циклом обменов со смертью. Мы способны ныне лишь на то, чтобы поставить науку на службу репарации мумии, то есть реставрации очевидного порядка, тогда же как бальзамирование было символическим обрядом, стремлением увековечить сокрытое измерение.
Нам необходимо очевидное прошлое, очевидный континуум, очевидный миф о происхождении, которые бы утешали нас относительно нашего конца. Хотя в глубине души мы никогда не верили в них. Отсюда и эта историческая сцена приема мумии в аэропорту Орли. Это потому, что Рамсес был великим деспотом и полководцем? Несомненно. Но прежде всего потому, что наша культура грезит, будто за этой исчезнувшей силой, которую она пытается аннексировать, скрывается другой порядок, с которым она не имеет ничего общего, и она грезит, будто уничтожила этот порядок, эксгумировав его в качестве своего собственного прошлого.
Мы заворожены Рамсесом, как христиане эпохи Возрождения были заворожены американскими индейцами, этими (человеческими?) созданиями, которые никогда не знали Слова Христова. Поэтому был в начале колонизации момент оцепенения и изумления перед самой возможностью избежать универсального закона Евангелия. Тогда следовало выбирать одно из двух: либо признать, что этот Закон неуниверсален, либо истребить индейцев, чтобы уничтожить улики. Как правило, довольствовались тем, что обращали их в свою веру, но даже просто обнаружения дикарей в дальнейшем было достаточно для их постепенного истребления.
Таким образом, достаточно было эксгумировать Рамсеса, чтобы уничтожить его через музеефикацию. Ведь мумии уничтожают не черви: они погибают из-за изъятия из неспешного символического порядка, властелина тлена и смерти, и перехода к порядку истории, науки и музея – нашему порядку, который больше не властен ни над чем и способен лишь обрекать то, что предшествовало ему, на тлен и смерть, а затем пытаться воскресить все это с помощью науки. Это непоправимое насилие надо всем тайным, насилие со стороны цивилизации без тайн, ненависть всей цивилизации к своим собственным основам.
Как этнология, которая делает вид, что отказывается от своего объекта, чтобы надежнее сохранить себя в своей чистой форме, так и демузеефикация – всего лишь еще один виток возрастающей искусственности. Свидетельством тому – монастырь Сен-Мишель де Кукса, который за огромные деньги собираются возвратить на родину из Клойстерса в Нью-Йорке и снова установить на «изначальном месте». И все должны аплодировать этому возвращению (как аплодировали «экспериментальной операции по отвоеванию тротуаров» на Елисейских Полях!). Но если вывоз капителей действительно был актом своеволия и если Клойстерс в Нью-Йорке все-таки является искусственной мозаикой всех культур (в соответствии с логикой капиталистической централизации ценностей), их возвращение на «изначальное место», в свою очередь, насквозь искусственно: это абсолютный симулякр, который догнал «реальность», совершив полный оборот.
Монастырь должен был остаться в Нью-Йорке в симулированной атмосфере, которая, по крайней мере, никого не вводила в заблуждение.
Репатриация же – еще одна уловка, чтобы сделать вид, будто ничего не случилось, и тешить себя ретроспективной галлюцинацией.
Таким же образом американцы хвалятся тем, что довели численность индейцев до той, какой она была до завоевания. Дескать, сотрем все и начнем сначала. Они даже хвалятся, что достигнут большего и превзойдут начальную цифру. Это будет доказательством превосходства цивилизации: она породит даже больше индейцев, чем они сами были в состоянии сделать. (Звучит как злая шутка, так как это перепроизводство является еще одним способом уничтожения индейской культуры, ведь она, как любая племенная культура, основывается на ограниченности группы и отказе от какого-либо «неограниченного» роста, как мы это видим в случае с Иши. Поэтому в их демографическом «промоушне» скрывается еще один шаг к символическому уничтожению.)
Так и мы все живем в мире, поразительно похожем на оригинальный, – вещи в нем продублированы по своему собственному сценарию. Но это удвоение не означает, как это было традиционно, близость их гибели – они уже очищены от своей смерти и даже выглядят лучше, чем при жизни: более привлекательные, более настоящие, чем их образцы, словно лица покойников в похоронных бюро.
Гиперреальное и воображаемое
Диснейленд – прекрасная модель всех переплетающихся между собой порядков симулякров. Это прежде всего игра иллюзий и фантазмов: Пираты, Пограничная территория, Мир будущего и т. д. Этот воображаемый мир, как считают, причина успеха заведения. Но что притягивает толпы посетителей гораздо больше, так это социальный микрокосм, религиозное наслаждение миниатюризированной реальной Америкой со всеми ее достоинствами и недостатками.
Вы паркуетесь снаружи, стоите в очередях внутри и остаетесь один на один с собой на выходе. В этом воображаемом мире единственной фантасмагорией является свойственная толпе теплота и сплоченность, а также чрезмерное количество гаджетов, необходимых для создания и поддержания этого эффекта массовости. Это полный контраст с абсолютным одиночеством автостоянки – настоящего концлагеря. Или иначе: внутри – целый арсенал гаджетов, которые, как магниты, притягивают толпу в разнонаправленных потоках; снаружи – одиночество, направленное на одну игрушку: автомобиль. По невероятному совпадению (и это, вероятно, одно из проявлений чародейства данного универсума) этот быстрозамороженный инфантильный мир, как оказывается, был задуман и воплощен в жизнь человеком, который сам находится сегодня в замороженном состоянии и ожидает своего воскрешения при температуре 180 градусов ниже нуля: Уолтом Диснеем.
Вот так повсюду в Диснейленде проступает объективный профиль Америки, вплоть до морфологии индивидуальности и толпы. Все ее ценности превозносятся здесь в миниатюре, в форме комиксов. Забальзамированные и умиротворенные. Отсюда возможность (которой очень хорошо воспользовался Л. Марен в книге «Утопики. Игры пространств») идеологического анализа Диснейленда как дайджеста американского образа жизни, панегирика
Страница 5 из 16
американским ценностям, идеализированной транспозиции противоречивой реальности. Все правильно. Но за этим кроется другое, и это «идеологическое» построение служит прикрытием симуляции третьего порядка: Диснейленд существует для того, чтобы скрыть, что Диснейлендом на самом деле является «реальная» страна – вся «реальная» Америка (примерно так, как тюрьмы служат для того, чтобы скрыть, что весь социум во всей своей полноте, во всей своей банальной вездесущности является местом заключения). Диснейленд представляют как воображаемое, чтобы заставить нас поверить, что все остальное является реальным, тогда же как весь Лос-Анджелес и Америка, которые окружают его, уже более не реальны, а принадлежат к порядку гиперреального и симуляции. Речь идет уже не о ложной репрезентации реального (идеологии), а о том, чтобы скрыть, что реальное перестало быть реальным, и таким образом спасти принцип реальности.
Имажинерия Диснейленда не является ни истинной, ни ложной – это машина апотропии, призванная регенерировать фикцию реального в противоположной плоскости. Отсюда слабость этого воображаемого, его инфантильное вырождение. Этот мир претендует на то, чтобы быть детским, дабы убедить в том, что взрослые находятся в другом месте – в «реальном» мире, – и скрыть, что настоящая инфантильность повсюду, особенно среди тех взрослых, которые приезжают сюда превратиться в детей, чтобы ввести самих себя в заблуждение относительно своей реальной инфантильности.
А в общем, Диснейленд неуникален. Заколдованная деревня, Волшебная гора, Морской мир: Лос-Анджелес находится в окружении эдаких электростанций воображаемого, которые обеспечивают реальным, энергией реального город, чья тайна как раз состоит в том, что отныне он – лишь сеть непрерывной ирреальной циркуляции: город невероятных размеров, но без пространства и без объема. Так же как и обычным и атомным электростанциям, так же как киностудиям, этому городу, который отныне является бесконечным сценарием и вечной киноплощадкой, необходимо это прежнее воображаемое (как симпатическая нервная система), состоящее из знаков детства и фальшивых фантазмов.
Диснейленд, пространство регенерации воображаемого, подобен размещенным в других местах, и даже в нем самом, заводам по переработке отходов. Сегодня повсюду перерабатывают отходы, а мечты, фантазмы, воображаемое (историческое, сказочное, легендарное) детей и взрослых и являются отходами, первыми ужасно токсичными испражнениями гиперреальной цивилизации. Диснейленд является прототипом этой новой функции на ментальном уровне. Но той же цели утилизации служат и все заведения по восстановлению сексуального, психического и соматического здоровья, которыми изобилует Калифорния. Люди больше не интересуются друг другом, но для этого есть различные общества и клубы. Они больше не соприкасаются друг с другом, но существует контактотерапия. Они больше не ходят пешком, но занимаются оздоровительным бегом и т. д. Всюду восстанавливают утраченные способности, или деградирующие тела, или потерянную коммуникабельность, или утраченный вкус к еде.
Заново изобретают дефицит, аскетизм, исчезнувшую грубую естественность: натуральные пищевые продукты, лечебное питание, йогу. Подтверждается, но уже на производном уровне, идея Маршалла Салинза о том, что дефицит порождает именно рыночная экономика, а вовсе не натуральная: тут, на передовых рубежах торжествующей рыночной экономики, снова выдумывается дефицит/знак, дефицит/ симулякр, симулируется поведение слаборазвитых (даже провозглашают марксистские тезисы) для того, чтобы, прикрываясь экологией, энергетическим кризисом и критикой капитала, добавить последний эзотерический венчик к торжеству экзотерической культуры. Но возможно, что ментальная катастрофа, имплозия и беспрецедентная ментальная инволюция подстерегают систему такого типа, видимыми признаками которых, похоже, и является это дикое ожирение или невероятное сосуществование самых причудливых теорий и практик, которое соответствует столь же невероятной коалиции излишества, райского блаженства и денег, невероятной реализации роскошной жизни и не поддающихся обнаружению противоречий.
Политическое чародейство
Уотергейт. Тот же сценарий, что и в Диснейленде (эффект воображаемого, скрывающий, что реального не более за пределами искусственного периметра, чем в его границах), только здесь эффект скандала, скрывающий, что не существует никакого различия между фактами и их изобличением (и у ЦРУ, и у журналистов Washington Post идентичные методы). Та же операция по регенерации моральных и политических принципов через скандал, как и операция по спасению погибающего принципа реальности через воображаемое!
Разоблачение скандала – это всегда дань уважения закону. И Уотергейт достиг особого успеха в создании впечатления, что скандал имел место на самом деле – в этом смысле это была удивительная операция по оболваниванию. Введение огромной дозы политической морали в мировом масштабе. Можно было бы сказать вместе с Бурдье: «Сущность любого баланса сил в том, чтобы скрывать себя как таковое, и он приобретает полную силу лишь потому, что скрывает себя как таковое», понимая это так: капитал, аморальный и беспринципный, может функционировать лишь под прикрытием моральной надстройки, и тот, кто возрождает эту общественную мораль (через возмущение, обличение и т. д.), невольно работает капиталу на руку. Как это произошло с журналистами Washington Post.
Когда Бурдье провозглашает свою идеологическую формулу, подразумевая под «балансом сил» истину капиталистического господства, и обличает этот баланс сил как скандал, он находится на той самой детерминистской и моралистической позиции, что и журналисты Washington Post. Он выполняет ту же работу по очищению и восстановлению морального порядка, порядка истины, в котором берет начало истинное символическое насилие социального порядка, выходящее далеко за пределы баланса сил, который является лишь переменной и индифферентной конфигурацией в моральном и политическом сознании людей.
Все, что требует от нас капитал, – это принимать его как нечто рациональное или бороться с ним во имя рациональности, принимать его как нечто моральное или бороться с ним во имя нравственности. На самом деле это одно и то же, и все можно рассмотреть в ином ключе: раньше пытались скрывать скандал – сегодня же пытаются скрывать, что никакого скандала нет.
Уотергейт – это не скандал: вот что необходимо сказать любой ценой, ведь именно это все и стараются скрыть – это диссимуляция, маскирующая укреплением нравственности моральную панику, охватывающую нас по мере приближения к грубой сущности капитала: его взрывная жестокость, его непостижимая кровожадность, его фундаментальная аморальность – вот что скандально, вот что неприемлемо для системы моральной и экономической эквивалентности, которая остается аксиомой левой мысли со времен теорий Просвещения и до теории коммунизма. Капиталу абсолютно плевать на идею договора, которая ему приписывается: он – чудовищное предприятие без всяких принципов и ничего более. Это «просвещенная» мысль пытается контролировать капитал,
Страница 6 из 16
устанавливая для него правила. И все те упреки, которые заменяют теперь революционную мысль, сводятся к обвинению капитала в том, что он не следует правилам игры. «Власть несправедлива, ее справедливость – это классовая справедливость, капитал эксплуатирует нас, и т. д.» – как будто капитал был связан договором с обществом, которым он управляет. Именно левые протягивают капиталу зеркало эквивалентности, надеясь, что он образумится, клюнет на фантасмагорию общественного договора и будет выполнять свои обязательства перед всем обществом (заодно отпадает необходимость революции – достаточно, чтобы капитал подчинился рациональной формуле обмена).
Капитал никогда не был связан договором с обществом, над которым он властвует. Капитал – это чародейство общественных отношений, это вызов обществу, на который и отвечать надо соответственно. Капитал – это не скандал, который следует обличать с позиций моральной или экономической рациональности, это вызов, который надо принять согласно символическому закону.
Обратная сторона ленты Мебиуса
Итак, Уотергейт был лишь ловушкой, устроенной системой для своих противников, – симуляцией скандала в регенерационных целях. Это воплощено в фильме персонажем «Глубокая Глотка», который, как говорят, был серым кардиналом республиканцев и манипулировал левым крылом журналистов с целью избавиться от Никсона, – почему бы и нет? Все гипотезы возможны, однако эта лишняя: левые очень хорошо сами, непроизвольно, выполняют работу правых. Впрочем, было бы наивно видеть в этом самоотверженную добросовестность. Ведь правые также непроизвольно выполняют работу левых. Все гипотезы манипуляции являются обратимыми в бесконечной замкнутой системе. Ведь манипуляция является шаткой каузальностью, в которой положительная и отрицательная позиции порождают и перекрывают друг друга каузальностью, в которой больше нет ни актива, ни пассива. Именно через произвольное прекращение обращения этой каузальности и может быть спасен принцип политической реальности. Именно через симуляцию ограниченного, традиционного, перспективного пространства, в рамках которого причины и следствия какого-либо действия или события можно просчитывать, и может сохраняться политическое правдоподобие (и конечно, «объективный» анализ, борьба и т. д.). Если рассматривать полный цикл любого действия или события в системе, в которой больше не существует линейной последовательности и диалектической полярности, в пространстве, поврежденном симуляцией, где исчезает всякая детерминированность, то каждое действие здесь отменяется с окончанием цикла, рассеиваясь во всех направлениях и становясь выгодным для всех.
Вот, к примеру, взрывы в Италии – это акция левых экстремистов, или правоэкстремистская провокация, или инсценировка центристов с целью дискредитации всех террористов-радикалов и удержания своей шаткой власти, или же полицейский сценарий и шантаж общественной безопасностью? Все это одновременно верно, и поиск доказательств и даже объективность фактов не останавливает эту безудержность интерпретаций. Это потому, что мы находимся в логике симуляции, которая больше не имеет ничего общего с логикой фактов и рациональным порядком. Симуляции присуща прецессия модели, всех моделей, над самым незначительным фактом – модели предшествуют своей, орбитальной, как ракеты с ядерными боеголовками, циркуляции и составляют истинное магнитное поле события. Факты больше не имеют собственной траектории, они рождаются на пересечении моделей, один и тот же факт может быть порожден всеми моделями одновременно. Эта антиципация, эта прецессия, это замыкание, это смешение факта с его моделью (нет больше искажения смысла, нет больше диалектической полярности, нет больше отрицательного заряда и имплозии антагонистических полюсов) – вот что каждый раз оставляет место для любых интерпретаций, даже самых противоречивых, все они одинаково верные в том смысле, что их истинность состоит во взаимообмене в пределах общего цикла, подобно моделям, из которых они проистекают.
Коммунисты атакуют Социалистическую партию так, будто хотят разрушить весь Союз левых сил. Они отстаивают идею, что это противодействие вызвано более радикальными политическими требованиями. На самом же деле это из-за того, что они не хотят власти. Но они не хотят ее из-за конъюнктуры, неблагоприятной для левых в целом или неблагоприятной для них самих в рамках Союза левых сил, или же они, по определению, больше не хотят власти? Когда Берлингуэр заявляет: «Не надо бояться того, что коммунисты придут к власти в Италии», это одновременно означает:
Что не следует бояться, потому что коммунисты, если они придут к власти, ничего не изменят в ее фундаментальном капиталистическом механизме;
Что нет никакого риска, что они когда-нибудь вообще придут к власти (по той причине, что они не хотят ее), и даже если они возьмут власть, то будут осуществлять ее всегда только через других;
Что на самом деле власть, истинная власть, больше не существует, и потому нет ничего опасного в том, что кто-то ее возьмет или возвратит;
Но еще: Я, Берлингуэр, не боюсь того, что коммунисты возьмут власть в Италии, – что может стать очевидным, однако это не совсем так, ведь:
Это может означать противоположное (ясно и без психоанализа): Я боюсь, что коммунисты возьмут власть (и для этого есть веские причины даже у коммуниста).
Все это одновременно верно. В этом состоит секрет дискурса, который больше не является лишь неоднозначным, как это случается с политическим дискурсом, но выражает невозможность определить позицию власти, невозможность определить позицию в дискурсе. И эта логика не склоняется ни в ту, ни в другую сторону. Она пронизывает все дискурсы вопреки их желаниям.
Кто распутает этот клубок противоречий? Гордиев узел можно было, по крайней мере, разрубить. Если же разрезать ленту Мебиуса, то она дает дополнительную спираль, однако уже без реверсивности поверхностей (в нашем случае: реверсивная непрерывность гипотез). Перед нами ад симуляции, который уже не ад мучений и пыток, но ад неуловимого, зловредного, неопределимого искривления смысла, где даже Бургосский процесс становится еще одним подарком со стороны Франко западной демократии, которая получает возможность регенерировать свой собственный шаткий гуманизм и чей негодующий протест, в свою очередь, укрепляет режим Франко, консолидируя испанские массы против иностранного вмешательства. Где во всем этом истина, когда подобные сговоры прекрасно происходят даже без ведома заговорщиков?
Конъюнкция системы и ее крайней альтернативы, словно двух сторон кривого зеркала, «порочная» искривленность политического пространства, отныне намагниченного, кругообразного, реверсивность правого и левого, искривление, которое выступает злым гением коммутации, вся система, вся бесконечность капитала закольцована на его собственной поверхности: трансфинитной? И разве не то же самое происходит с желанием и
Страница 7 из 16
пространством либидо? Конъюнкция желания и ценности (стоимости), желания и капитала. Конъюнкция желания и закона, наслаждение как финальная метаморфоза закона (вот почему оно так щедро представлено в повестке дня): наслаждается лишь капитал, говорил Лиотар, прежде чем в дальнейшем прийти к мысли, что теперь мы получаем наслаждение посредством капитала. Ошеломляющая универсальность желания у Делеза, загадочный зеркальный поворот, который производит желание «революционное в себе, и, не желая того, желая то, что оно желает» собственного подавления, оно вкладывает свою силу в параноидальные и фашистские системы. Зловредное искривление, которое отсылает эту революцию желания к той самой фундаментальной неоднозначности, как и другую революцию – историческую.
Все референции смешивают свои дискурсы вкруговую, в стиле Мебиуса. Секс и работа не так давно были категорически противоположными понятиями, сегодня и то и другое превратилось в потребности одного типа. Раньше дискурс истории набирал силу, решительно противопоставляя себя дискурсу природы, дискурс желания – дискурсу власти, сегодня они обмениваются своими означающими и своими сценариями.
Понадобилось бы слишком много времени, чтобы попутно рассмотреть всю гамму операциональных отрицательных позиций, все те сценарии апотропии, которые, подобно Уотергейту, пытаются регенерировать агонизирующий принцип через симулированный скандал, фантазм, убийство, – своего рода курс гормональной терапии через отрицание и кризис. Речь всегда о том, чтобы доказывать реальное через воображаемое, истинность – через скандал, закон – через нарушение, существование работы – через забастовку, существование системы – через кризис, а капитала – через революцию, подобно рассмотренному выше (история с тасадаями) доказательству этнологии через отказ от ее объекта, и это без учета: доказательства театра через антитеатр; доказательства искусства через антиискусство; доказательства педагогики через антипедагогику; доказательства психиатрии через антипсихиатрию и т. д.
Все метаморфизируется в свою противоположность, чтобы пережить себя в откорректированной форме. Все органы власти, все институты говорят о себе через отрицание, стараясь через симуляцию смерти избежать своей реальной агонии. Власть может инсценировать свое собственное убийство, чтобы восстановить хотя бы проблеск существования и легитимности. Та к было в случае с некоторыми американскими президентами: Кеннеди были убиты потому, что все еще обладали политическим измерением. Другие – Джонсон, Никсон, Форд – имели право лишь на призрачные покушения, на симулированные убийства. Но эта аура искусственной угрозы им все еще была необходима, чтобы скрыть, что они лишь манекены власти. Когда-то король (как и Бог) должен был умереть – в этом было его могущество. Сегодня он убого пытается симулировать смерть, с тем чтобы сохранить благодать власти. Но она уже утрачена.
Искать свежие силы в своей собственной смерти, возобновлять цикл через зеркало кризиса, отрицание и антивласть – вот единственный выход-алиби любой власти, любого института, пытающихся разорвать порочный круг своей безответственности и своего фундаментального небытия, своей ужевиденности и своей ужемертвенности .
Стратегия реального
К тому же порядку, что и невозможность отыскать абсолютный уровень реального, принадлежит невозможность инсценировать иллюзию. Иллюзия больше невозможна, потому что больше невозможна реальность. В этом заключается вся политическая проблема имитации, гиперсимуляции или агрессивной симуляции.
Например, было бы интересно посмотреть, будет ли репрессивный аппарат реагировать с большей силой на симулированное вооруженное ограбление, чем на реальное? Ведь последнее всего лишь нарушает порядок вещей, право собственности, тогда как первое посягает на сам принцип реальности. Преступление и насилие менее серьезны, потому что они не оспаривают распределение реального. Симуляция же бесконечно опаснее, так как, независимо от своей цели, позволяет в любой момент сделать предположение, что порядок и закон сами могут быть всего-навсего симуляцией.
Однако сложность пропорциональна опасности. Как симулировать преступление и доказать имитацию? Симулируя кражу в супермаркете, как убедить службу безопасности, что это симулированная кража?
Никакого «объективного» различия: жесты, знаки – все то же самое, что и при реальной краже; по знакам невозможно различить, была ли это настоящая кража или имитация. С точки зрения установленного порядка знаки всегда принадлежат к категории реального.
Организуйте ложный налет. Тщательно проверьте безопасность своего оружия и возьмите наиболее надежного заложника, чтобы ни одна человеческая жизнь не подверглась опасности (потому что тогда вы попадаете в сферу уголовной юрисдикции). Потребуйте выкуп и сделайте все, чтобы операция достигла по возможности большей огласки, – короче говоря, сделайте все как можно более правдоподобно, чтобы проверить реакцию аппарата на совершенный симулякр. Вам это не удастся: сеть искусственных знаков безнадежно перепутается с реальными элементами (полицейский в самом деле выстрелит в цель; клиент банка потеряет сознание и умрет от сердечного приступа; вам реально заплатят выкуп фальшивыми деньгами), короче говоря, вы против своей воли сразу окажетесь в реальном, одна из функций которого состоит именно в том, чтобы поглощать любую попытку симуляции, чтобы сводить все к реальному – в этом и есть суть установленного порядка, который вступает в игру задолго до общественных институтов и правосудия.
В этой невозможности отделить процесс симуляции следует усматривать влияние установленного порядка, который не способен замечать и постигать что-либо, кроме реального, потому что он не может функционировать больше нигде. Даже если симуляция преступления будет установлена, оно будет ими подвергнуто легкой степени наказания как не имевшее последствий, или же наказано как оскорбление правоохранительных органов (например, если полицейская операция была развернута «без оснований»), но никогда как симуляция, потому что как раз в качестве таковой оно не может быть приравнено к реальному, а значит, невозможно и наказание. Власть не может ответить на вызов симуляции. А как подвергнуть наказанию симуляцию добродетели? А ведь это грех куда более тяжкий, нежели симуляция преступления. Имитация уравнивает повиновение и неповиновение закону, и вот в этом-то и кроется наибольшее преступление, поскольку это сводит на нет различие, на котором основывается закон. Установленный порядок ничего не может с этим поделать, поскольку закон представляет собой симулякр второго порядка, тогда как симуляция относится к третьему, располагаясь по ту сторону истинного и ложного, по ту сторону эквивалентности, по ту сторону рациональных различений, на которых основывается функционирование любого социального и любой власти. Таким образом, повреждение реального, симуляция, наносит удар по установленному порядку.
Именно поэтому порядок всегда выбирает реальное. В сомнениях он всегда отдает предпочтение этой гипотезе
Страница 8 из 16
(так в армии предпочитают считать симулянта истинным сумасшедшим). Но это становится все затруднительней, ведь если практически невозможно отделить процесс симуляции в силу инертности реального, которое нас окружает, то верно и обратное (и именно эта обратимость составляет часть механизма симуляции и бессилия власти), а именно: теперь невозможно отделить и процесс реального, или доказать реальность реального.
То есть все теракты, угоны самолетов и т. д. отныне являются в некотором смысле преступлениями-симуляциями, если иметь в виду их заведомую вписанность в дешифровку и ритуальную оркестровку средствами массовой информации, заведомую известность их сценариев и возможных последствий. Короче говоря, они функционируют как набор знаков, предназначенных исключительно для своего повторения как знаков, а вовсе не для «реальных» целей. Но от этого они не становятся безвредными. Напротив, именно как гиперреальные события, которые уже не имеют конкретного содержания и собственных целей и лишь бесконечно отражаются друг в друге (точно так же, как так называемые исторические события: забастовки, демонстрации, кризисы и т. д.), они становятся неподвластны установленному порядку, который может осуществляться лишь в реальном и рациональном, в причинно-следственном; референциальному порядку, который может властвовать лишь над референциальным; детерминированной власти, которая может властвовать лишь над детерминированным миром, но ничего не может поделать с этой бесконечной повторяемостью симуляции, с этой туманностью в состоянии невесомости, которая больше не подчиняется законам гравитации реального. Сама власть в конце концов дезорганизовывается в этом пространстве, превращаясь в симуляцию власти (утрачивая связь со своими целями и задачами и обрекая себя на производство лишь эффектов власти и массовой симуляции).
Единственное оружие власти, ее единственная стратегия против этого вероломства состоит в том, чтобы снова инъецировать повсюду реальное и референциальное, в том, чтобы убедить нас в реальности социального, в важности экономики и целесообразности производства. Для этого власть использует преимущественно дискурс кризиса, а также – почему бы и нет? – дискурс желания. «Принимайте ваши желания за действительность!» следует понимать как последний лозунг власти, поскольку в ирреференциальном мире даже смешение принципа реальности и принципа желания менее опасно, чем контагиозная гиперреальность. Пока остаются принципы, остается и власть.
Гиперреальность и симуляция – средства апотропии любого принципа и любой цели, и они оборачивают против власти средство апотропии, которым она так хорошо пользовалась в течение длительного времени. Ведь, в конце концов, на протяжении всей своей истории капитал сам первым способствовал деструкции всего, что связано с референциальным, всего, что связано с человеческим целеполаганием, это капитал уничтожил все идеалистические различия между истинным и ложным, между добром и злом, чтобы установить свой радикальный закон эквивалентности и обмена, железный закон своего господства. Капитал первым прибег к практике апотропии, абстракции, разъединения, детерриториализации и т. д., и, если он был тем, кто насаждал реальность, принцип реальности, он же был первым, кто ликвидировал его через уничтожение всякой потребительской стоимости, всякой реальной эквивалентности производства и богатства, через само ощущение ирреальности целей и всесилия манипуляции. Та к вот сегодня именно эта логика все более радикально выступает против капитала. И всякий раз, когда он пытается вырваться из этой катастрофической спирали, испуская последний проблеск реальности, чтобы основать на нем последний проблеск власти, он лишь умножает знаки и ускоряет игру симуляции.
Пока историческая угроза исходила для нее от реального, власть спекулировала апотропией и симуляцией, дезинтегрируя все противоречия с помощью производства эквивалентных знаков. Сегодня, когда угроза исходит для нее от симуляции (угроза раствориться в игре знаков), власть спекулирует реальным, кризисом, спекулирует искусственным перевоссозданием социальных, экономических, политических целей. Для нее это вопрос жизни и смерти. Однако уже слишком поздно.
Отсюда характерная для нашего времени истерия производства и воспроизводства реального. Прочее производство – ценностей и товаров, производство классической эпохи политэкономии, – уже давно лишено собственного смысла. Все, к чему стремится, продолжая производить и перепроизводить, целое общество, – это восстановление ускользающего от него реального. И поэтому теперь само «материальное» производство гиперреально. Оно сохраняет все черты, весь дискурс традиционного производства, однако является лишь слабым его отражением (так гиперреалисты фиксируют с невероятным сходством реальное, из которого исчезли весь смысл и весь шарм, вся глубина и энергия репрезентации). Та к гиперреализм симуляции повсюду проявляется невероятным сходством реального с самим собой.
Власть также уже давно продуцирует лишь знаки своего подобия. И неожиданно разворачивается другой образ власти: коллективный спрос на знаки власти – священный союз, создающийся вокруг ее исчезновения. Все страны так или иначе присоединяются к нему в ужасе от краха политического. В итоге игра во власть становится лишь опасной одержимостью власти – одержимостью своим умиранием и своим выживанием, которая растет по мере исчезновения власти. Когда она исчезнет окончательно, логически, мы окажемся перед полной иллюзией власти – идеей фикс, которая уже заметна всюду и выражается одновременно в непреодолимом желании избавиться от нее (никто больше не желает власти, и каждый перекладывает ее бремя на кого-то другого) и в панической ностальгии от ее утраты. Меланхолия обществ без власти – именно она уже однажды спровоцировала фашизм, эту передозировку сильной референции в обществе, которое не может справиться со своей скорбью.
С истощением политической сферы президент все больше уподобляется Манекену Власти, которым является вождь в первобытных обществах (Кластр).
Все последующие президенты платили и продолжают платить за убийство Кеннеди, так, будто это они заказали его, что соответствует истине если не в фактическом, то фантазматическом плане. Они должны искупить этот грех и это соучастие через свое симулированное убийство. Ведь последнее теперь только и может быть лишь симулированным. Президенты Джонсон и Форд оба были объектами неудачных покушений, которые если и не были инсценированы, то, по крайней мере, совершались на основе симуляции.
Страница 9 из 16
Кеннеди погибли, потому что еще воплощали нечто: политическую власть, политическую субстанцию, – тогда как все последующие президенты были лишь их карикатурой, марионеточными персонажами; любопытно, что все они (Джонсон, Никсон, Форд) имели обезьяньи черты – обезьяны власти.
Смерть никогда не является абсолютным критерием, но в этом случае она показательна: эпоха Джеймса Дина, Мэрилин Монро и Кеннеди, тех, кто реально умирали, потому что имели мифическое измерение, которое предполагает смерть (не из романтических побуждений, а как фундаментальный принцип реверсии и обмена), – эта эпоха давно закончилась. Настала эпоха убийств на основе симуляции, всеобъемлющей эстетики симуляции, убийства-алиби – аллегорического воскрешения смерти, которая нужна лишь для того, чтобы санкционировать институт власти, не имеющей без этого ни субстанции, ни автономной реальности.
Эти инсценировки покушений на президентов показательны, ибо сигнализируют о статусе любой отрицательной позиции на Западе: политической оппозиции левых, критического дискурса и т. д. – все это контрастный симулякр, при помощи которого власть пытается разорвать порочный круг своего небытия, своей фундаментальной безответственности, своей «флотации». Власть «плавает», подобно курсу валют, языковой стилистике, подобно теориям. Только критика и отрицательная позиция еще порождают призрак реальности власти. И если по той или иной причине они истощат свои силы, власти не останется ничего другого, как только искусственно их воскресить, галлюцинировать.
Так смертные казни в Испании служат еще и стимулом для либеральной западной демократии, для агонизирующей системы демократических ценностей. Свежая кровь, но насколько ее еще хватит? Деградация всех видов власти неудержимо прогрессирует, и не столько «революционные силы» ускоряют этот процесс (скорее наоборот), сколько сама система подвергает свои собственные структуры насилию, сводит на нет любую субстанцию, любую целесообразность. Не следует сопротивляться этому процессу, пытаясь противостоять системе и разрушать ее, потому что она, агонизируя от упразднения своей смерти, только этого от нас и ждет: что мы возвратим ей смерть, что мы воскресим ее через отрицание. Конец революционной практики, конец диалектики.
Любопытно, что Никсон, которого даже не посчитали достойным умереть от руки хоть какого-нибудь ничтожного случайного психа (и пусть, что, возможно, верно, президентов всегда убивают психи, это ничего не меняет: страстное желание левых выявлять в этом заговор правых создает лишь ложную проблему – функцию умерщвления или провозглашения пророчества и т. д. против власти еще со времен первобытных обществ всегда осуществляли скудоумные, сумасшедшие или невротики, которые, тем не менее, выполняют социальную функцию столь же фундаментальную, как и любой президент), все же был ритуально казнен Уотергейтом. Уотергейт – это все еще способ ритуального убийства власти (американский институт президентства намного интереснее в этом плане, чем европейские: он впитал в себя все насилие и превратности первобытного права, дикарских ритуалов). Но вот импичмент уже не является убийством: он осуществляется по Конституции. Никсон все-таки достиг того, о чем мечтает всякая власть: восприниматься достаточно серьезно, представлять для некой группы достаточную смертельную опасность, чтобы однажды быть смещенным, изобличенным и устраненным. Форд уже не получает такого шанса: симулякр уже мертвой власти, он может лишь накапливать против себя знаки реверсии через убийство, от которого он был фактически иммунизирован своим бессилием, которое выводило его из себя.
В отличие от первоначального ритуала, который предусматривает официальную и жертвенную смерть короля (король или вождь – ничто без обещания своей жертвы), современная политическая имажинерия движется все дальше в направлении к тому, чтобы отсрочивать, как можно дольше скрывать смерть главы государства. Эта одержимость усилилась в эпоху революций и харизматических лидеров: Гитлер, Франко, Мао, не имея «законных» наследников для передачи власти, вынуждены были на неопределенное время пережить самих себя – народное мифотворчество не желает признавать их мертвыми. Та к уже было с фараонами, которые, сменяя друг друга, воплощали всегда одну и ту же личность.
Все происходит так, будто Мао или Франко уже умирали много раз, а на смену им приходили их двойники. С политической точки зрения абсолютно ничего не меняется от того, что глава государства остается тем же самым или сменяется другим, если они подобны друг другу. В любом случае уже длительное время любой глава государства – безразлично кто именно – есть лишь симулякр самого себя, и это единственное, что наделяет его властью и правом повелевать. Никто не окажет ни наименьшего одобрения, ни наименьшей почтительности реальному человеку. Преданность направлена на его двойника, так как сам он изначально уже мертв. Этот миф выражает лишь устойчивую потребность и вместе с тем вводит в заблуждение относительно жертвенной смерти короля.
Мы все еще находимся в одной лодке: ни одно общество не знает, как правильно распрощаться с реальным, властью, самим социальным, которое также исчезает. И именно через искусственное оживление всего этого мы пытаемся избежать траурной церемонии. Это может в конечном итоге даже вылиться в социализм. Вследствие непредвиденного поворота событий и иронии, которая больше не является иронией истории, именно из смерти социального и возникнет социализм, как из смерти Бога возникают религии. Извращенное пришествие, искаженное событие, реверсия, которая не поддается рациональной логике.
Фактически власть существует сегодня лишь для того, чтобы скрыть, что ее больше нет. Эта симуляция может продолжаться бесконечно, потому что в отличие от «истинной» власти, которая является или являлась определенной структурой, стратегией, балансом сил, определенной целью, сегодняшняя власть – лишь объект общественного спроса, и, как объект закона спроса и предложения, она уже не является субъектом насилия и смерти. Полностью лишенная политического измерения, она зависит, как любой другой товар, от производства и массового потребления. Не осталось даже проблеска власти, осталась одна только фикция политического универсума.
То же самое происходит и с трудом. Искра производства, неистовство его устремлений исчезли. Все по-прежнему производится, и во все больших и больших объемах, но незаметно труд стал чем-то иным: потребностью (как это в идеале представлял Маркс, но потребностью в другом смысле), объектом общественного «спроса», подобно досугу, которому труд эквивалентен в общем распорядке повседневности. Спросом, прямо пропорциональным потере цели в трудовом процессе. Тот же неожиданный поворот, что и в случае с властью: сценарий труда существует для того, чтобы скрыть, что реальный труд, реальное производство исчезли. Так же как и реальная забастовка, которая больше не является остановкой работы, но ее альтернативным полюсом в ритуальном скандировании социальных отчетов. Все происходит так, как если бы после объявления забастовки каждый «занял» свое рабочее место и возобновил, как это положено в «самоуправляемых» профессиях, производство точно на тех же условиях, что и раньше, решительно заявляя, что он находится (и виртуально находясь) в состоянии перманентной забастовки.
Это не научно-фантастические грезы: мы всюду имеем дело с дублированием трудового процесса и с дублированием забастовочного процесса – забастовки включены в трудовой процесс, как моральный износ в оборудование, как кризис в производство. Итак, больше нет ни труда, ни забастовки по отдельности, но есть и то и другое одновременно, а значит, нечто иное: магия труда, одна лишь видимость, сценодрама (чтобы не сказать мелодрама) производства, коллективная драматургия на пустой сцене социального.
Речь идет уже не о трудовой идеологии – традиционной этике, которая затеняла бы «реальный» трудовой процесс и «объективный» процесс эксплуатации, – но о сценарии труда. Та к же как речь идет не об идеологии власти, но о сценарии власти. Идеология – лишь искажение реальности через знаки, симуляция – короткое замыкание реальности и ее дублирование знаками. Цель идеологического анализа – восстановление объективного процесса, а намерение восстановить истину в рамках симулякра – ложная постановка проблемы.
Вот почему власть, в сущности, так легко соглашается с идеологическими дискурсами и дискурсами по поводу идеологии, ведь это дискурсы истины, которые всегда полезны (даже, и особенно, если они революционны) в борьбе со смертельными ударами симуляции.
Конец паноптизма
Именно с этой идеологией пережитого, эксгумированного реального в его фундаментальной банальности, в его радикальной аутентичности соотносится американский эксперимент реалити-шоу (TV Verite), проведенный в 1971 году над семьей Лауд: семь месяцев непрерывной съемки, триста часов прямого вещания, без сценария и постановки, одиссея одной семьи, ее драмы, ее радости, неожиданные перипетии нон-стоп – короче говоря, «сырой» исторический документ и «самое большое достижение телевидения, сопоставимое, в масштабе нашей повседневности, с репортажем о высадке на Луну». Дело усложняется тем, что эта семья распадается во время съемок: разразился скандал, Лауды развелись и т. д. Отсюда неразрешимая контроверза: виновато ли в этом телевидение? Что было бы, если бы там не было телевидения?
Фантазм был бы еще более захватывающим, если бы Лаудов снимали так, будто там не было телевидения. Триумф режиссеров состоял бы в том, чтобы сказать: «Они жили так, будто нас там не было». Абсурдная, парадоксальная формула – не истинная и не ложная: утопическая. «Так, будто нас там не было» эквивалентно «так, будто вы там были». Именно эта утопия, этот парадокс заворожил двадцать миллионов телезрителей в значительно большей степени, чем «извращенное» удовольствие от вторжения в частную жизнь. В этом Verite-эксперименте речь идет не о тайне, не о перверсии, но о своего рода вибрации реального или эстетике гиперреального, вибрации от головокружительной и фальсифицированной достоверности, вибрации от одновременного отдаления и приближения, от искажения масштаба, от чрезмерной транспарентности. Наслаждение от избыточного смысла, когда уровень знака опускается ниже привычной ватерлинии смысла: незначительное преувеличивается благодаря ракурсу съемки. Каждый видит то, чего в реальности не было (но «как если бы вы там были»), без дистанции, которую дает пространство перспективы и глубины восприятия (но «более естественное, чем само естество»). Наслаждение от микроскопической симуляции, которая превращает реальное в гиперреальное. (Так же происходит с порно, которое завораживает больше на метафизическом, чем на сексуальном уровне.)
Впрочем, эта семья уже была гиперреальной по своей природе, почему ее и выбрали: типично идеальная американская семья, дом в Калифорнии, три гаража, пятеро детей, надежный социальный и профессиональный статус, декоративная жена-домохозяйка, уровень жизни выше среднего. В определенной степени именно это статистическое совершенство и обрекает ее на смерть. Идеальные герои американского образа жизни, они избираются, как и при древних жертвоприношениях, для того, чтобы быть прославленными и умереть в пламени медиума, который играет роль современного фатума. Поскольку небесный огонь больше не поражает падшие города, объектив камеры, будто лазер, пронзает пережитую реальность, предавая ее смерти. «Лауды – просто семья, которая согласилась предать себя в руки телевидению и умереть», – скажет режиссер. Как видим, речь действительно идет о жертвенном процессе, о жертвенном зрелище, предложенном двадцати миллионам американцев. Литургическая драма массового общества.
TV Verite (Истина ТВ). Замечательное в своей двусмысленности название – речь идет об истине этой семьи или об истине телевидения? На самом деле телевидение, явившее истину Лаудов, – это телевидение той истины, которая становится истиной. Истиной, которая больше не является ни истиной отражения в зеркале, ни истиной перспективы паноптической и контролирующей системы, но истиной манипулятивного теста, который зондирует и опрашивает, истиной лазера, который нащупывает и проникает, матриц, которые сохраняют ваши перфокарты, истиной генетического кода, который управляет вашими комбинациями генов, нервных клеток, которые управляют вашей сенсорикой. Именно этой истине подвергло медиум-телевидение семью Лауд и в этом смысле вынесло ей смертный приговор (но об истине ли еще речь?).
Конец паноптической системы. Телевизионный глаз больше не является источником абсолютного наблюдения, и идеалом контроля больше не является идеальная транспарентность. Паноптическая система еще предполагает существование объективного пространства (пространства Ренессанса) и всемогущество деспотического надзора. Это все еще если не система заключения, то, по крайней мере, система наблюдения по секторам. Более утонченная, однако все еще внешняя по своему характеру, построенная на оппозиции «наблюдать» и «быть под наблюдением», даже если фокальная точка системы наблюдения находится в слепой зоне.
Совсем иное в случае с Лаудами. «Вы больше не смотрите телевидение – это телевидение смотрит вас (Live)», или еще: «Вы больше не слушаете передачу “Без
Страница 11 из 16
паники!” – это “Без паники!” слушает вас» – поворот от паноптической системы контроля (см. «Надзор и наказание» Фуко) к системе апотропии, в которой отменено различение между пассивным и активным. Больше нет императива подчинения модели или контролю. «ВЫ – модель!», «Главное – это ВЫ!». Таков аспект гиперреальной социальности, в которой реальное перепутано с моделью, как в статистической выкладке, или с медиумом, как в эксперименте с Лаудами. Такова следующая стадия социальных отношений, наша стадия, которая уже больше не является стадией убеждения (классической эрой пропаганды, идеологии, рекламы и т. д.), а является стадией разубеждения, апотропии: «ВЫ – последние известия, вы – социальное, вы – событие, вы имеете к этому отношение, слово вам» и т. д. Зеркальный поворот, благодаря которому становится невозможной локализация инстанции модели, власти, контроля, самих медиа, потому что вы всегда оказываетесь по ту сторону. Больше не существует ни субъекта, ни фокальной точки, ни центра или периферии – сплошная изогнутость или круговое отклонение. Больше не существует ни насилия, ни надзора – одна лишь «информация», скрытая вирулентность, цепная реакция, медленная имплозия и пространственные симулякры, в которых еще имеет место эффект реального.
Мы свидетели конца перспективного и паноптического пространства (которое еще остается моральной гипотезой, согласующейся со всеми попытками классического анализа «объективной» сущности власти) и, таким образом, отмены самого спектакулярного. Телевидение, как, например, в случае с Лаудами, больше не является спектакулярным медиумом. Мы больше не находимся ни в обществе спектакля, о котором говорили ситуационисты, ни в разновидности специфического отчуждения и специфического подавления, которые оно предполагало. Сам медиум больше не воспринимается как таковой, и смешение медиума с месседжем (Маклюэн) является первой важной формулой этой новой эпохи. Медиума в буквальном смысле больше не существует: теперь он неосязаем, рассеян и дифрагирован в реальном, и уже нельзя даже сказать, искажает ли он что-либо.
Такое смешение, такое вирусное, эндемическое, хроническое, паническое присутствие медиума, когда становится невозможно выделить его воздействие – призрачное, как рекламные лазерные скульптуры в пустом пространстве, как события, профильтрованные медиа, – растворение телевидения в жизни, растворение жизни в телевидении – гомогенный химический раствор: это означает, что мы все Лауды, обреченные не на вторжение, не на давление, не на насилие и шантаж со стороны СМИ и моделей, но на их индукцию, их инфильтрацию, их незаметное изнасилование.
Однако нужно остерегаться негативного направления, которое навязывает дискурс: речь идет не о болезни, не о вирусной инфекции. О медиа следует думать лучше так, будто они находятся на внешней орбите и являются чем-то вроде генетического кода, который управляет мутацией реального в гиперреальное, и так же, как другой код, микромолекулярный, управляет переходом от репрезентативной сферы смысла к сфере генетически запрограммированного сигнала.
Под сомнение ставится вся традиционная система каузальности: метод перспективный и детерминистский, «активный» и критический, метод аналитический – различение между причиной и следствием, между активным и
Страница 12 из 16
пассивным, между субъектом и объектом, между целью и средствами. Именно исходя из этого, можно сказать: телевидение наблюдает за нами, телевидение отчуждает нас, телевидение манипулирует нами, телевидение информирует нас… Мы остаемся при всем этом заложниками аналитической концепции СМИ, концепции активного и эффективного внешнего агента, концепции «перспективной» информации, в которой точкой схода является горизонт реального и смысла.
Итак, телевидение нужно представлять себе по аналогии с ДНК, как следствие, в котором исчезают противоположные полюса детерминации, согласно контракции, ядерной ретракции прежней полярной схемы, которая всегда сохраняла минимальную дистанцию между причиной и следствием, между субъектом и объектом, а именно дистанцию смысла, промежуток, различие, наименьший возможный разрыв (НВР!), который невозможно сократить под страхом поглощения алеаторным и недетерминированным процессом, о котором дискурс не может даже дать представления, потому что сам принадлежит к детерминированному порядку.
Именно этот промежуток исчезает в процессе генетического кодирования, неопределенность которого является не столько неопределенностью случайной игры молекул, сколько неопределенностью полнейшей отмены соотношений. В процессе молекулярного управления, «исходящего» от ядра ДНК к «субстанции», которую он «информирует», уже нет места для развертывания какого-либо эффекта, энергетики, детерминации, сообщения. «Команда, сигнал, импульс, сообщение» – все это попытки сделать вещь понятной для нас, но по аналогии с использованием таких терминов, как «регистрация», «вектор», «декодирование» для описания измерения, о котором мы ничего не знаем, это уже даже не «измерение» или, возможно, именно то, что является четвертым измерением (оно определяется, кстати, в теории относительности как поглощение различных полюсов пространства и времени). Но фактически весь этот процесс может быть понят только в отрицательной форме: больше ничто не отделяет один полюс от другого, начальное от конечного, происходит что-то вроде их деформирующего взаимопроникновения, некое фантастическое катастрофическое столкновение, обрушение друг в друга двух традиционных полюсов: имплозия – поглощение радиальной системы каузальности, дифференциальной системы детерминации с ее положительным и отрицательным зарядом – имплозия смысла. Именно здесь берет свое начало симуляция.
Повсюду, во всех сферах – в политической, биологической, психологической, медийной, где больше невозможно сохранить различение между этими двумя полюсами, – мы попадаем в симуляцию и, следовательно, в абсолютную манипуляцию – не в пассивность, а в неразличимость активного и пассивного. ДНК реализует эту алеаторную редукцию на уровне живой субстанции. Телевидение, как в случае с Лаудами, также достигает этого предела неопределенности, когда люди не в большей или меньшей степени активны или пассивны относительно телевидения, чем некая живая субстанция относительно своего молекулярного кода. И тут и там одна и та же туманность, которая не поддается расшифровке ни на уровне своих простых элементов, ни на уровне своей истинности.
Орбитальное и ядерное
Апофеоз симуляции – ядерная угроза. Однако «равновесие страха» всегда только спектакулярный аспект системы апотропии, которая изнутри проникла во все поры повседневной жизни. Ядерная напряженность лишь подкрепляет и банализирует систему апотропии, которая лежит в основе СМИ, насилия без последствий, царящего повсюду в мире, в основе алеаторного механизма всех решений, которые мы принимаем. Даже самые незначительные наши поступки регулируются нейтрализованными, индифферентными, эквивалентными знаками, сумма которых равна нулю, теми же знаками, которые управляют «стратегическими играми» (но истинное уравнение кроется в другом, и неизвестное в нем – это как раз та переменная симуляция, которая превращает сам атомный арсенал в форму гиперреального, в симулякр, возвышающийся над всеми нами и сводящий все «наземные» события лишь к неким эфемерным сценариям, трансформируя оставленную нам жизнь в выживание, в цель без цели – даже не в торг по поводу жизни и смерти, в торг, заранее проигранный).
Это не прямая угроза атомного уничтожения парализует наши жизни – это апотропия обескровливает нас. И апотропия эта исходит из того, что даже само реальное атомное столкновение исключается – исключается заведомо, как возможность реального в системе знаков. Все делают вид, будто верят в реальность этой угрозы (военных еще можно понять, ведь на карту поставлена вся серьезность их существования и весь их «стратегический» дискурс), но как раз на этом уровне стратегические цели отсутствуют, и вся оригинальность ситуации заключается в невероятности уничтожения.
Апотропия исключает возможность войны – архаичного насилия расширяющихся систем. Апотропия же является нейтральным, имплозивным насилием метастабильных систем или систем в состоянии инволюции. Нет больше ни субъекта устрашения, ни противника, ни стратегии, есть лишь планетарная структура уничтожения целей. Атомная война, наподобие Троянской, не состоится. Риск ядерного уничтожения служит лишь поводом для того, чтобы под предлогом усовершенствования военной техники (но это усовершенствование настолько чрезмерно по сравнению с любой целью, что она сама становится ничтожной) ввести всеобъемлющую систему безопасности, ограничения и контроля, апотропийный эффект которой направлен вовсе не на предотвращение атомного столкновения (которое никогда и не принималось в расчет, за исключением, конечно, самой начальной стадии «холодной войны», когда ядерную систему еще путали с традиционным методом ведения войны), а на апотропию намного более возможных реальных событий, всего того, что могло бы стать событием в общей системе и тем самым нарушить ее равновесие. Равновесие страха – это страх равновесия.
Апотропия – не стратегия, она циркулирует и выступает предметом обмена между ядерными протагонистами точно так же, как международный капитал в орбитальной зоне валютных спекуляций, чей флуктуации достаточно для того, чтобы контролировать всю мировую торговлю. Так вот, валюты уничтожения (связанной с реальным уничтожением не больше, чем блуждающий капитал связан с реальным производством), циркулирующей на ядерной орбите, достаточно для того, чтобы контролировать все насилие и все потенциальные конфликты земного шара.
В тени этой системы под предлогом серьезнейшей «объективной» угрозы и благодаря этому ядерному дамоклову мечу затевается мощнейшая система контроля, которая когда-либо существовала, и постепенная сателлитизация всей планеты с помощью этой гипермодели безопасности.
То же самое касается и мирной атомной энергетики. Умиротворение не делает различия между гражданским и военным: везде, где разрабатываются необратимые средства контроля, везде, где понятие безопасности становится всесильным, везде, где норма безопасности заменяет прежний арсенал законов и насилия (включая и войну), растет эта самая система апотропии, а вокруг нее разрастается историческая, социальная и политическая
Страница 13 из 16
пустыня. Гигантская инволюция заставляет сжаться все конфликты, все конечные цели, все конфронтации в пределах этого шантажа, который прерывает, нейтрализует, замораживает их всех. Никакое возмущение, никакой казус не могут больше разворачиваться в соответствии со своей собственной логикой, потому что в этом есть риск уничтожения. Никакая стратегия больше невозможна, и любая эскалация – только детская игра, оставленная для военных. Политическая цель мертва, остаются одни только симулякры конфликтов и тщательно очерченных ставок.
«Космическая гонка» сыграла точно такую же роль, что и ядерная эскалация. Вот почему космонавтика так легко смогла сменить ее в 60-е годы (Кеннеди/Хрущев) и развиваться параллельно в форме «мирного сосуществования». Ведь в чем заключается решающая функция космической гонки, покорения Луны, запуска спутников, если не во внедрении модели всемирного тяготения, сателлитизации, совершенным зародышем которой выступает лунный модуль – программируемый микрокосм, в котором ничто не может быть оставлено на волю случая? Траектория, энергетика, расчеты, физиология, психология, окружающая среда – ничто не может быть оставлено на волю случайных обстоятельств, перед нами всеобъемлющий мир нормы, в нем больше не существует закона, а его сила перешла к операциональной имманентности всей совокупности деталей. Мир, очищенный от всякой угрозы смысла, асептический и невесомый, – именно это совершенство завораживает. Экзальтацию толп вызвал не факт высадки на Луну или запуск человека в космос (это скорее воплощение предыдущей мечты), нет, мы ошеломлены совершенством программирования и технического манипулирования, имманентным чудом запрограммированного развития событий. Завораживание от максимальной нормы и от управления вероятностью. Головокружение от модели, которая сближается с моделью смерти, но без страха и неосознанного влечения. Ведь если закон с его аурой нарушения, порядок с его аурой насилия еще провоцируют перверсивное воображаемое, то норма фиксирует, завораживает, ошеломляет и производит инволюцию всего воображаемого. Тщательность программы не питает более воображение. Лишь ее выполнение вызывает головокружение. Головокружение от мира без изъянов.
А ведь та же модель программированной непогрешимости, максимальной безопасности и апотропии сегодня регулирует и социальное пространство. В этом и заключаются истинные ядерные последствия: тщательное манипулирование технологией служит моделью для тщательного манипулирования социальным. И здесь также ничто больше не остается на волю случая. Более того, в этом и есть суть социализации, которая началась сотни лет тому назад, но сейчас вошла в фазу своего ускоренного развития, приблизившись к границе, которую считали эксплозивной (революция) и которая в данный момент выражается через противоположный процесс, имплозивный и необратимый: всеобъемлющая апотропия от любой случайности, от любой акциденции, от любой трансверсальности, от любой финальности, от любого противоречия, резкого изменения и осложнения в социальном, облученном нормой и обреченном на дескриптивную транспарентность механизмов информации. На самом деле космическая и ядерная модели лишены собственных целей: таковыми не являются ни освоение Луны, ни военно-стратегическое превосходство. Их назначение – быть моделями симуляции, векторными моделями системы планетарного контроля (даже сверхдержавы не свободны от этого сценария – весь мир сателлитизирован).
Очевидное противоречие: в процессе сателлитизации сателлитом является не то, что считается таковым. Вследствие орбитальной вписанности космического объекта в сателлит превращается сама планета Земля, и земной принцип реальности становится эксцентричным, гиперреальным и незначительным. Вследствие орбитального инстанцирования системы контроля, такой как мирное сосуществование, в сателлиты превращаются все наземные микросистемы, которые теряют при этом свою самостоятельность. Вся энергия, все события поглощаются этой эксцентричной гравитацией, все сжимается и имплозирует в единую микромодель контроля (орбитальный сателлит), как в другом примере, биологическом измерении, все конвергирует и имплозирует в молекулярную микромодель генетического кода. В ходе этих двух процессов, в этой развилке ядерного и генетического, в одновременном действии обоих фундаментальных кодов апотропии поглощается всякий принцип смысла, и никакое развертывание реального не становится невозможным.
Яркой иллюстрацией этого была одновременность двух событий в июле 1975 года: стыковка в космосе двух суперспутников, американского и советского, апофеоз мирного сосуществования, и постановление китайцев об отказе от идеограмматического письма в пользу латинского алфавита. Последнее означало «орбитальное» инстанцирование абстрактной и смоделированной системы знаков, в орбите которой подвергаются резорбции все уникальные когда-то формы стиля и письма. Сателлитизация языка: для китайцев это способ войти в систему мирного сосуществования, и она происходит точно в то же время, что и стыковка спутников в их небе. Орбитальный полет «Большой двойки» соответствует нейтрализации и гомогенизации всех тех, кто остался на Земле.
И все же, несмотря на эту апотропию посредством орбитальной инстанции – ядерного кода или кода молекулярного, – наземные события продолжают происходить, и неожиданные повороты становятся все более многочисленными, если учесть глобальный процесс смежности и одновременности распространения информации. Хотя это трудноуловимо, но они больше не имеют смысла и становятся лишь дуплексным следствием симуляции на высшем уровне. Лучшего примера, чем война во Вьетнаме, не найти, ведь она происходила в точке пересечения максимальной исторической и «революционной» цели и процесса внедрения этой инстанции апотропии. Какое значение имела эта война и не обозначает ли сам ее ход конец истории в решающем и кульминационном событии нашей эпохи?
Почему эта война, такая тяжелая, такая длинная, такая жестокая, рассеялась в течение нескольких дней, словно по мановению волшебной палочки?
Почему это американское поражение (самая большая неудача в истории США) не имело никаких внутренних последствий в Америке? Если бы оно действительно означало крах планетарной стратегии Соединенных Штатов, оно непременно нарушило бы и внутреннее равновесие американской политической системы. Ничего подобного не произошло.
Произошло, следовательно, что-то другое. По сути, эта война была лишь решающим эпизодом мирного сосуществования. Она ознаменовала присоединение Китая к мирному сосуществованию. Невмешательство Китая, достигнутое и конкретизированное после многолетнего изучения им мирового modus vivendi, переход от стратегии мировой революции к стратегии разделения сфер влияния, отход от радикальной альтернативы в пользу изменений в политической системе, которая теперь в основном налажена (нормализация отношений между Пекином и
Страница 14 из 16
Вашингтоном), – именно в этом заключалась цель вьетнамской войны, и в этом смысле США хоть и ушли из Вьетнама, но выиграли войну.
И война «спонтанно» прекратилась, когда эта цель была достигнута. Вот почему она была свернута, рассеялась с такой легкостью.
Подобную редукцию сил можно заметить и в самом Вьетнаме. Война продолжалась до тех пор, пока не были ликвидированы непримиримые элементы, несовместимые со здоровой политикой и дисциплиной власти, пусть даже коммунистической. Когда наконец инициатива перешла к регулярным частям Севера и выскользнула из рук партизан, война могла прекратиться: она достигла своей цели. Цель, таким образом, состояла в организованном политическом изменении. Как только вьетнамцы доказали, что они больше не носители непредсказуемой субверсии, можно было отдавать им и карты в руки. То, что порядок коммунистический, в сущности, не важно: он зарекомендовал себя, поэтому ему можно доверять. Он даже эффективнее капитализма в ликвидации «диких» и архаических докапиталистических структур.
По тому же самому сценарию проходила и война в Алжире.
Другой аспект этой войны и любой войны отныне: за вооруженным насилием, за смертельным антагонизмом противников, который представляется делом жизни и смерти и разыгрывается как таковой (иначе никогда не удалось бы посылать людей на гибель в подобных конфликтах), за этим симулякром смертельной борьбы и беспощадной глобальной цели, обоих противников объединяет фундаментальная солидарность против чего-то иного, неназванного и необсуждаемого, но полная ликвидация которого, при равном соучастии обоих противников, является объективным результатом войны: племенные, общинные, докапиталистические структуры, все формы символического обмена, языка, мироустройства – именно это нужно уничтожить, умерщвление всего этого является целью войны, – и последняя, со своим исполинским зрелищным арсеналом смерти, является лишь средством этого процесса террористической рационализации социального – умерщвление, в результате которого сможет установиться социальное бытие, неважно, какого направления – коммунистического или капиталистического. Полное соучастие, или разделение труда между двумя противниками (которые могут даже пойти ради этого на огромные жертвы), с той же целью перестройки и приручения социальных отношений.
Этот сценарий: крайне жестокие бомбардировки Ханоя. Их непереносимый характер не должен скрывать, что они были лишь симулякром, который давал возможность вьетнамцам делать вид, будто они соглашаются на компромисс, а Никсону – заставить американцев проглотить вывод своих войск. Игра состоялась, и на карте стояло лишь правдоподобие финальной сцены.
Пусть это не обескураживает моралистов от войны, поборников высокой воинской доблести: война не становится менее жестокой оттого, что она только симулякр, на ней человек по-прежнему испытывает настоящие телесные страдания, и ее жертвы и ветераны с лихвой достойны жертв и ветеранов других войн. Эта задача всегда успешно выполняется, так же как задачи разделения территории по секторам и дисциплинарной социализации. Чего больше нет, так это противостояния противников, реальности антагонистических причин, идеологической серьезности войны, а также реальности победы или поражения, поскольку война превратилась в процесс, который торжествует далеко за пределами своих внешних проявлений.
В любом случае умиротворение (или апотропия), которое доминирует сегодня, находится по ту сторону войны и мира, и его суть в том, что и война и мир беспрерывно эквивалентны. «Война – это мир», – говорится у Оруэлла. И в этом также два дифференциальных полюса имплозируют друг в друга или рециркулируют друг друга – синхронизация противоположностей, которая является одновременно пародией и концом любой диалектики. Таким образом, можно полностью пропустить истину войны, а именно то, что она закончилась задолго до своего завершения, что войне был положен конец в самом разгаре войны и что она, возможно даже, никогда не начиналась. Многие другие события (нефтяной кризис и т. д.) никогда не начинались, никогда не существовали, разве что как искусственные перипетии – абстракции, эрзацы и артефакты истории, катастроф и кризисов, предназначенные для того, чтобы удерживать под гипнозом историческую инвестицию. Все СМИ и официальные источники информации задействованы только для того, чтобы поддержать иллюзию событийности, реальности целей, объективности фактов. Все события следует читать в обратном направлении, или же становится заметно (ретроспектива коммунистов «во власти» в Италии, посмертное повторное «открытие» ГУЛАГа и советских диссидентов, так же как недавнее открытие умирающей этнологией утраченного «различия» дикарей), что все эти вещи случаются слишком поздно в истории, которая запаздывает, в спирали, которая запаздывает, что они уже заранее исчерпали свой смысл и живут только благодаря искусственному возбуждению знаков, что все эти события сменяют друг друга без логической связи, в тотальной эквивалентности противоположностей, в полнейшей индифферентности к своим последствиям (а они их больше и не имеют, потому что исчерпывают свои силы в зрелищном промоушне), – все кадры новостной «кинохроники» производят мрачное впечатление китча, ретро и порно одновременно – несомненно, все знают об этом, и никто не воспринимает их всерьез.
Реальность симуляции невыносима – более жестока, нежели Театр жестокости Арто, который был все еще попыткой создать драматургию жизни, последним вздохом идеальности тела, крови, насилия в системе, которая уже изгоняла все это прочь, бескровно поглощая все цели и задачи. И трюк удался. Любая драматургия, а также любой реальный стиль жестокости исчезли. Роль хозяйки принадлежит симуляции, и нам осталось право только на ретро, на призрачную пародийную реабилитацию всех утраченных референций. Все по-прежнему разворачивается вокруг нас, в холодном свете апотропии (включая Арто, который имеет право, как и все остальное, на свое возрождение, на повторное существование в качестве референции жестокости).
Вот почему распространение ядерного оружия не увеличивает риск атомного столкновения или катастрофы, за исключением промежутка, в котором «молодые» государства могут ощутить соблазн использовать его не с целью устрашения, а с «реальной» целью (как это сделали американцы в Хиросиме, но в самом деле только они и имели право на использование этой «потребительной стоимости» бомбы, и всех тех, кто получит доступ к ней в дальнейшем, будет удерживать от использования бомбы сам факт обладания ею). Вступление в ядерный клуб, так красиво названный, очень быстро отбивает (так же как вступление в профсоюз в трудовой сфере) любую охоту к силовому вмешательству. Ответственность, контроль, цензура, самосдерживание растут всегда быстрее, чем силовые структуры или средства вооружения, имеющиеся в распоряжении: таков секрет социального порядка. Так, даже сама возможность парализовать
Страница 15 из 16
всю страну одним движением рубильника вниз гарантирует, что электроэнергетики никогда ею не воспользуются; весь миф о всеобщей и революционной забастовке рушится в тот самый момент, когда появляется возможность для ее проведения, но, увы, именно потому, что появляется возможность для ее проведения. В этом и заключается весь процесс апотропии.
Поэтому вполне вероятно, что однажды мы станем свидетелями того, как ядерные державы будут экспортировать атомные реакторы, ракетные войска и атомные бомбы по всей планете. На смену контроля путем угрозы придет намного более эффективная стратегия умиротворения посредством бомбы и через обладание бомбой. «Малые» государства, полагая, что они приобрели независимую ударную силу, приобретут вирус апотропии, своего собственного сдерживания. То же относительно и атомных реакторов, которые мы им уже поставляем: по сути, это множество нейтронных бомб, которые нейтрализуют всякую историческую вирулентность, всякий риск эксплозии. В этом смысле ядерное повсюду вызывает ускоренный процесс имплозии, оно замораживает все вокруг себя и поглощает всю жизненную силу.
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=17354863&lfrom=279785000) на ЛитРес.
Примечания
См.: Baudrillard J. L"еchange symbolique et la mort, L"ordre des simulacres. Paris, Gallimard, 1975.
И который не поддается разрешению через трансференцию. Именно смешение этих двух дискурсов и делает психоанализ бесконечным.
См.: Perniola M. Ic?nes, visions, simulacres. Р. 39.
Это не обязательно приводит к безнадежности для смысла, но также к импровизации смыслом, к отсутствию смысла, одновременной множественности смыслов, разрушающих друг друга.
Энергетический кризис, экологические сценарии в своей совокупности сами по себе являются фильмом-катастрофой, в том же стиле (и такого же достоинства), что и фильмы, которые сейчас составляют славу Голливуда. Напрасно тщательно интерпретировать эти фильмы в их связи с «объективным» социальным кризисом или даже с «объективным» фантазмом катастрофы. Говорить следует о другом – о том, что именно само социальное, в современном дискурсе, организуется по сценарию фильма-катастрофы. (См.: Makarius М. La stratеgie de la catastrophe. Р. 115.)
Этому снижению заинтересованности в труде соответствует параллельное снижение заинтересованности в потреблении. Конец потребительской стоимости или престижности автомобиля, конец излюбленному дискурсу, который четко противопоставлял объект потехи объекту труда. На смену приходит другой дискурс, дискурс труда как объекта потребления, который ориентирован на активно принудительную, пуританскую заинтересованность – используйте меньше горючего, следите за своей безопасностью, не превышайте скорость и т. д., – так эта тенденция проявляется даже в характеристиках автомобиля. Так через инверсию полюсов обнаруживается новая цель. Труд становится объектом потребления, автомобиль становится объектом труда. Нет лучшего доказательства индифференциации всех целей. Именно через такое смещение от «права» голоса к избирательным «обязанностям» дает о себе знать потеря заинтересованности в политической сфере.
Смешение медиум/месседж, конечно, коррелирует со смешением отправителя и получателя, подтверждая таким образом исчезновение любых дуальных полярных структур, которые определяли дискурсивную организацию языка, любой детерминированной артикуляции смысла, которая отсылала к знаменитой таблице функций языка Якобсона. То, что дискурс «циркулирует», следует понимать буквально: то есть так, что он больше не перемещается от одной точки к другой, но проходит цикл, который без различия включает в себя позиции отправителя и получателя, отныне не поддающиеся обнаружению как таковые. Таким образом, больше не существует инстанции власти, инстанции отправителя, – власть становится чем-то таким, что циркулирует и чей источник больше не определяется, циклом, в котором доминирующая и подчиненная позиции меняются местами в бесконечной реверсии, что является также концом власти в ее классическом определении. Циркуляризация власти, знания, дискурса означает конец всякой локализации инстанций и полюсов. В свою очередь, и в психоаналитической интерпретации интерпретатор получает свою «власть» не от какой-то внешней инстанции, но от самого интерпретируемого. Это меняет все, ведь у традиционных власть имущих всегда можно спросить, откуда они получили власть. Кто сделал тебя герцогом? Король. Кто сделал тебя королем? Бог. Только Бог не дает ответа. Но на вопрос, кто сделал тебя психоаналитиком, аналитик с легкостью отвечает: «Ты». Так через обратную симуляцию выражается переход от «объекта анализа» к «субъекту анализа», из пассива в актив, который лишь иллюстрирует эффект вращательной подвижности полюсов, эффект циркуляции, в которой власть теряется, растворяется, сводится к совершенной манипуляции (она принадлежит уже не к порядку директивной и контролирующей инстанции, а к порядку тактильности и коммутации). См. также о циркуляции государства/семьи, которую обеспечивают колебание и метастатическое регулирование образов социального и частного (Donzelot J. La Police des Familles).
Отныне невозможно задать пресловутые вопросы: «От имени кого вы говорите?», «Откуда вы это знаете?», «От кого вы получили вашу власть?», не услышав сразу в ответ: «Но именно о вас (от вас) я говорю», то есть это вы говорите, это вы знаете, это вы власть. Невообразимая околичность, околесица речи, которая тождественна безвыходному шантажу, безоговорочному разубеждению субъекта, который призван говорить, но оставаться без ответа, потому что на вопросы, которые субъект ставит, ему неизбежно отвечают: но это вы ответ, или: ваш вопрос уже является ответом, и т. д. – вся удушающая софистика загнанной в ловушку речи, принудительного признания под прикрытием свободы слова, наложение субъекта на его собственный вопрос, прецессия ответа относительно вопроса (вся безудержность интерпретации присутствует здесь, как и безудержность сознательного или бессознательного самоуправления «речи»). В этой инверсии симулякра или инволюции полюсов, в этом хитром трюке кроется тайна всего дискурса манипуляции, а следовательно, отныне во всех сферах тайна любой новой власти кроется в уничтожении сцены власти, в присвоении себе всякой речи, результатом чего является это невероятное молчаливое большинство, характерное для нашего времени, – все это началось, без сомнения, в политической сфере с симулякра демократии, то есть с субституции божественной инстанции инстанцией народа как источника власти и власти как эманации властью, как репрезентацией. Антикоперниковская революция: больше нет ни трансцендентальной инстанции, ни солнца, ни источника света, власти и знания – все исходит от народа и все возвращается к нему. Именно с этой потрясающей
Страница 16 из 16
рециркуляции и начинает реализовываться, от сценария всеобщего избирательного права и до сегодняшних химер опросов общественного мнения, универсальный симулякр манипуляции.
Парадокс: все бомбы чистые – единственное загрязнение, обусловленное ими, – это система безопасности и контроля, которую они излучают, когда не взрываются.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.
Жан Бодрийяр
Симуляция и симулякры
Западная религия, культура и добросовестность всегда верили в репрезентацию: в то, что знак способен выражать сокровенный смысл, что он может служить заменой смысла, в то, что существует нечто, что делает эту замену возможной, гарантирует ее адекватность – это, разумеется, Бог. Но что, если и самого Бога можно симулировать, т.е. свести к знакам, удостоверяющим его существование? Тогда вся система теряет точку опоры; она превращается в гигантское подобие, в симулякр – не то чтобы вовсе лишенный связей с действительностью, но симулякр, который отсылает теперь не к внешней действительности, а к самому себе – возникает замкнутый круг без референта и без границ.
Так обстоит дело с симуляцией постольку, поскольку она противостоит репрезентации. Исходный принцип репрезентации – равноценность знака и реальности (даже если эта равноценность – полная утопия, она все же базовая аксиома). Наоборот, симуляция исходит из утопичности принципа равноценности, из радикального отрицания знака как ценности; симуляция видит в знаке переворот значения и смертный приговор референту. Если репрезентация пытается поглотить симуляцию, относясь к ней как к ложной репрезентации, то симуляция обволакивает все здание репрезентации, видя в нем самом только внешнее подобие.
Образ проходит следующую последовательность фаз:
1. Он отражает реальную действительность.
2. Он маскирует и искажает реальную действительность.
3. Он маскирует отсутствие действительности.
4. Он не имеет никакого отношения к действительности: он превращается в собственное подобие.
В первом случае образ выглядит как благо: у репрезентации характер причастия. Во втором – образ предстает как зло: у него характер злодеяния. В третьем случае он только притворяется, что обладает обликом: характер колдовства. В четвертом вообще нельзя говорить об облике, поскольку образ приобретает характер симуляции.
Переход от знаков, которые маскируют нечто, к знакам, которые скрывают, что за ними ничего нет, – это решающий поворот. Первые подразумевают теологию истины и тайны (к которой относится и понятие идеологии). Вторые открывают эру подобий и симуляций, в которой больше не осталось ни Бога, ни Страшного суда для отделения правды от лжи, действительности от ее искусственного воскрешения, потому что все уже умерло и уже воскресло.
Когда действительность перестает быть тем, чем она была, ностальгия обретает новый смысл. Разрастаются мифы происхождения и знаки реальности; растет количество подержанных истин, поношенной объективности, ложной подлинности. Нарастает тоска по подлинному, живому опыту; фигуративное замещает исчезнувшие объект и содержание. И идет паническое производство подлинного, над– и параллельно материальному производству. Так проявляется симуляция в нашей сегодняшней фазе: в виде стратегий реального, неореального и гиперреального, всеобщим заменителем которых является стратегия сдерживания.
Из книги Общество потребления автора Бодрийар ЖанЖАН БОДРИЙЯР И ЕГО ВСЕЛЕННАЯ ЗНАКОВ (Послесловие)Ж. Бодрийяр - известный французский интеллектуал, в работах которого затрагиваются глубокие проблемы философии, социологии, экономики, политики, культуры. Его острый и насмешливый взгляд прикован к современности; он
Из книги Символический обмен и смерть автора Бодрийар ЖанЖан Бодрийяр: время симулякров Как у своих поклонников, так и у своих критиков Жан Бодрийяр пользуется репутацией уклончивого и двусмысленного мыслителя. Сторонники (особенно американские) «постмодернизма» сопровождают его имя религиозными эпитетами, странно
Из книги Соблазн автора Бодрийар ЖанОбманка, или Очарованная симуляция Симуляция разочарованная: порнография - правдивей правды - вот апогей симулякра.Симуляция очарованная: обманка - лживей ложного - вот тайна видимости.Здесь нет ни фабулы, ни рассказа, ни композиции. Нет сцены, нет зрелища, нет
Из книги Постмодернизм [Энциклопедия] автора Грицанов Александр АлексеевичБОДРИЙЯР Основные сочинения: "Система вещей" (1968), "К критике политической экономии знака" (1972), "Зеркало производства" (1975), "Символический обмен и смерть" (1976), "В тени молчаливого большинства" (1978), "О совращении" (1979), "Симулякры и симуляции" (1981), "Фатальные стратегии" (1983),
Из книги К критике политической экономии знака автора Бодрийар Жан"СИМУЛЯКРЫ И СИМУЛЯЦИЯ" "СИМУЛЯКРЫ И СИМУЛЯЦИЯ" - сочинение Бодрийяра ("Simulacres et simulation". Paris, 1981), представляющее собой, с одной стороны, попытку обобщения его предыдущих теоретических разработок, а с другой - размышления автора по поводу современных культурных и
Из книги Симулякры и симуляция автора Бодрийар ЖанСИМУЛЯЦИЯ СИМУЛЯЦИЯ - понятие постмодернистской философии, фиксирующее феномен тотальной семиотизации бытия вплоть до обретения знаковой сферой статуса единственной и самодостаточной реальности. В данном аспекте постмодернизм развивает заложенную модернизмом идею
Из книги Матрица Апокалипсиса. Последний закат Европы автора Бодрийар ЖанБодрийяр и симулякры Творчество некоторых мыслителей часто ассоциируется с каким-нибудь сюжетом или концептом, который становится в таком случае привычной визитной карточкой или фирменным лейблом, этикеткой или даже торговой маркой. Конечно, не Бодрийяр придумал
Из книги автораСИМУЛЯКРЫ И НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА Есть три порядка симулякров: - Симулякры естественные, натуралистические, основанные на изображении, имитации и подделке, гармоничные, оптимистичные и направленные на реституцию или идеальную институцию природы по образу Божию; -
Из книги автораЖан Бодрийяр Фантомы современности Предисловие Жан Бодрийяр относится к тем редким философам, которые отстаивают свои взгляды не только на страницах книг или в научных дискуссиях, но и в настоящих баталиях. Он активно участвовал в революционных событиях 1968 года
Simulacres et simulation
Симулякры и симуляция
1981, ÉDITIONS GALILÉE, Paris.
Б75 Бодрийяр, Ж. Симулякры и симуляция [Текст]/ - Перевод О.А. Печенкина. - Тула, 2013. - 204с.
Перевод с французского и вступительная статья О.А. Печенкиной
Несомненно, симулякр является одной из основных категорий постмодернистской философии. Концепция симулякра связана, прежде всего, с именем виднейшего французского философа Жана Бодрийяра (1929-2007), по мнению которого, эпоха постмодернизма есть не что иное, как эра тотальной симуляции.
Все процессы симуляции происходят в так называемом пространстве симуляции, образное описание которого философ дает в книге «Соблазн» (1979г.), написанной несколько лет спустя после произведения «Символический обмен и смерть» (1976г.). В симулятивном пространстве гиперреальности эффект реальности имитируется и утрируется, создавая впечатление, что все предметы, воздух, освещение существуют в действительности. «У этого таинственного света нет источника, в косом падении его лучей нет уже ничего реального, он как водная гладь без глубины…Вещи тут давно утратили свою тень (свою вещественность)» /Соблазн/. Наиболее полно характеристики пространства гиперреальности, а также самой эры симуляции, раскрываются философом в книге «Симулякры и симуляция», вышедшей в 1981 году.
ISBN 978-5-88422-506-0
Печенкина О.А., 2013
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПЕРЕВОДЧИКОМ
Информация о переводчике
Печенкина Ольга Алексеевна
Кандидат философских наук, преподаватель французского языка, переводчик (Тула).
Диссертационная работа на тему «Этика симулякров Жана Бодрийяра (анализ постмодернистской рецепции этического)» (2006г.)
Монография: Этика симулякров Жана Бодрийяра (анализ постмодернистской рецепции этического). − Тула: Изд-во Тульский полиграфист, 2011. - 204 с.
Персональная страница simulacrum.h16.ru, simulacrum.fo.ru
Текст монографии размещен на сайтах
Эра тотальной симуляции, или искусственное воскрешение реальности
Постсовременная эпоха, как и всякий новый виток в развитии культуры и философской мысли, ознаменовал себя разного рода изменениями. Сам термин постмодернизм , дословно постсовременность, до настоящего момента так и не получил четкой и окончательной дефиниции. Выделяемые философами многочисленные черты обозначенной эпохи могли бы быть объединены некоей общей тенденцией формулировать свойства, исходя из отрицания и отсутствия по отношению к модернизму. Подобную особенность в интерпретациях постмодернизма, в общем, можно назвать «апофатическим» дискурсом о постмодерне.
Эпоха «после-долга» , эпоха минималистской морали, свободной от каких-либо предписаний, «морали без этики» , период постмодернистской неопределенности, множественности истины, алеаторного распространения ценностей, как его часто характеризуют, включил в себя те произошедшие модификации, которые не могли не сказаться отрицательно на привычном мировосприятии человека, на системе моральных установок общества. Возникла потребность в переоценке традиционных ценностей, вызванная исчерпанностью предшествующей парадигмы представлений. Мутации, коснувшиеся различных сфер человеческого бытия, связаны, прежде всего, с наступлением эры новейших технических средств массовых коммуникаций - телевидения, видеотехники, компьютерной техники. Немаловажную роль в системе человеческих взаимоотношений сыграло развитие глобальной сети Интернет. Экспериментирование с искусственной реальностью, различные способы производства реальности
повлекли за собой изменения в характере не только восприятия самой действительности, но и повлияли на способ общения людей. Характеризуя специфику взаимоотношений в «пространстве симуляции», философ говорит о самом акте как об игре, симуляции разговора, потому что ни собеседников, ни смысла сообщений в сетевом пространстве уже не существует. «Здесь играют в то, будто говорят друг с другом, слушают друг друга, общаются, здесь разыгрываются самые тонкие механизмы постановки коммуникации. Контакт ради контакта становится родом пустого самособлазна языка, когда ему уже просто нечего сказать».
Современность для Жана Бодрийяра, которого можно отнести скорее к критикам ситуации постмодерна, чем к ее апологетам, - это эра тотальной симуля-ции, и он всюду обнаруживает симуляционный характер всех со-временных социальных и культурных феноменов. В результате, по мнению Жана Бодрийяра, люди имеют дело не с реальностью, а с гиперреальностью, вос-принимаемой гораздо реальнее, чем сама реальность.
Современное
положение вещей названо Бодрийяром «состоянием после оргии» /Прозрачность зла, 1990/. Каждый взрывной момент в мире - это оргия. «Это момент освобождения в какой бы то ни было сфере. Освобождения политического и сексуального, освобождения сил производительных и разрушительных, освобождения женщины и ребенка, освобождения бессознательных импульсов, освобождения искусства». Каждому периоду оргии, таким образом, сопутствует революционное состояние опровержения предшествующих ценностей и идеалов, завоевания нового пространства свобод и прав. Однако, «после оргии», по мнению Ж. Бодрийяра, человечеству не остается ничего другого, кроме как симулировать освобождение, «изображать оргию». «Все что нам остается - тщетные притворные попытки породить какую-то жизнь помимо той, которая уже существует. Мы живем в постоянном воспроизведении идеалов, фантазмов, образов, мечтаний, которые уже присутствуют рядом с нами и которые нам, в нашей роковой безучастности, необходимо возрождать снова и снова». Именно на данном этапе эволюции симулякров и наступает время господства чистых бессубъектных симулякров.
По мнению многих исследователей постсовременности, симулякр является одним из наиболее популярных в последнее время терминов постмодернистски ориентированной философской и просто теорети-ческой мысли. Становление концепции симулякра, связанной, прежде всего, с именем Жана Бодрийяра, проходило параллельно развитию теории деконструкции Жака Деррида. Однако язык и стиль первого нельзя назвать таким же «серьезным», изобилующим постструктуралистскими семиологическими категорями и терминами, как стиль школы деконструктивистов. Бодрийяр снискал себе «несколько двусмысленные титулы мага постмодернистской сцены, гуру постмодерна, Уолота Диснея современной метафизики, «меланхолического Ницше», подменившего сверхчеловека «смертью субъекта». […] Идеи Деррида и взгляды Бодрийара - теории разных уровней». Тем не менее, именно этот «поп-философский» язык, воспринимается как более характерный для постмодернистского литературного стиля, насыщенного сложной научной терминологией из различных областей знания.
Термином «симулякр» Жан Бодрийяр начинает оперировать в конце 70-х годов. Именно в этот период открывается постмодернистский этап его творчества. Однако ранние труды во многом подготовили переход на постмодернистские позиции. Они были посвящены «своего рода социологическому психоанализу мира вещей и общества потребления, не чуждому семиологии, структурализму и неомарксизму (большое влияние на Бодрийара оказали взгляды Ф. де Соссюра, Р. Барта, Г. Лукача, Г. Маркузе, А. Лефевра)».
Симулякр - это имитация несуществующего. «Симулировать значит делать вид, что имеешь то, чего нет на самом деле». В постмодернистской ситуации, где реальность превращается в модель, оппозиция между действительностью и знаками стирается и все превращается в симулякр. В пространстве тотальной симуляции не существует больше границ между реальным и воображаемым, реальность отныне переходит в ранг гиперреальности, характеризующейся господством чистых ирреферентных симулякров, прецессией моделей и заменой реального знаками реального. Характеризуя объекты, размещенные в пространстве симуляции как изолированные случайные знаки, философ отмечает, что отныне, с наступлением эры симуляции, эти знаки лишаются референтов. «В этом переходе в пространство, чье искривление не относится больше ни к реальному, ни к истине, эра симуляции открывается уничтожением всех референтов - хуже: их искусственным воскрешением в системах знаков… […] Речь не идет больше об имитации, ни о дублировании, ни даже о пародии. Речь идет о замене реального знаками реального, то есть об операции устрашения всего реального процесса его операционным дубликатом, метастабильной знаковой машиной, программатичной, безупречной, которая дарует все знаки реального и минует при этом все перипетии» . Отныне все, с чем мы сталкиваемся, подвергается бесконечным замещениям, ничто в этом гиперреальном универсуме больше не реально и является результатом предшествования модели, чистым знаком реального, лишенным собственного референта, все становится своим собственным чистым симулякром. В результате симулякр оказывается принципиально несоотносимым с реальностью напря-мую, если вообще соотносимым с чем-либо, кроме других симу-лякров. Именно этот мир, мир моделей и симулякров, пространство ирреферентных образов, называемое гиперреальностью, Жан Бодрийяр и описывает в книге «Симулякры и симуляция», вышедшей в 1981 году.
Наметив несколькими годами ранее стадиальную схему эволюции симулякров, Жан Бодрийяр предлагает лишь три ступени подобного развития: симулякры первого порядка, действующие на основе естественного закона ценности, симулякры второго порядка - на основе рыночного закона стоимости, и симулякры третьего порядка - на основе структурного закона ценности. И только позже, в работе «Прозрачность зла» автор концепции развивает схему и добавляет четвертую стадию эволюции симулякров - фрактальную, которая и соответствует «нынешнему» положению вещей и является «самой современной». Именно третья и четвертая стадии эволюции симулякров представляют наибольший интерес, поскольку являются теми ступенями, на которых начинается производство невещественных процессуальных симулякров, моральных симулякров. В книге «Симулякры и симуляция» описывается третья стадия развития симулякров, а также существенные отличия симулякров третьего порядка от симулякров предыдущей фазы. По словам философа, структурная стадия характеризуется, прежде всего, сменой реального на гиперреальное
, основой логики которого является так называемая прецессия
симулякров - предшествование симулякров или моделей реальным событиям. Согласно логике гиперреального, симулякры больше не являются отображением реально существующих объектов, отныне само реальное является вторичным по отношению к симулякрам, которые, в свою очередь, приобрели характеристику ирреферентности. «Именно следы реальности, а не карты продолжают существовать то здесь, то там, и не в пустыне Империи, а в нашей [пустыне]. Пустыне самого реального». Симуляция это уже не подделка оригинала, но и не чистая серийность, которой правит закон эквивалентностей, теперь все формы выводятся путем модулирования отличий. Модуляция составляет основу всего - смысл имеет только соотнесенность с моделью, и все теперь выводится из модели, из «референтного означающего». На смену рыночного закона ценности приходит структурный, так как основу симуляции составляет подстановка элементов, управляемая секретами кода.
Гиперпространство симуляции характеризуется цикличным повторением событий, которые, в свою очередь, образуются из орбитальной циркуляции моделей. В подобном цикле, по мнению Жана Бодрийяра, невозможна детерминированность или определение, которое, в силу своего распространения по всем направлениям, рождает почву для плюрализма и многочисленных, даже противоречивых интерпретаций.
Однако наиболее значимой характеристикой гиперреального пространства представляется его регулируемость генетическим или бинарным кодом. Причем для третьей стадии характерно повсеместное проникновение генетического кода, который присутствует в дискурсе, медиуме, но также и в каждом из нас. «В делах, аффектах, замыслах или удовольствиях каждый пытается реализовать свою собственную оптимальную программу. У каждого есть свой код, у каждого - своя формула. Но также и свой облик, свой образ. Может ли быть в таком случае что-то вроде генетической внешности?».
Таково новое положение вещей, которое Жан Бодрийяр называет новейшей операциональной конфигурацией, чьим метафизическим принципом и является бинарность или бинарный код. Таковым является генетический код, управляющий симулякрами третьего порядка; его особенность состоит в том, что он содержит всю информацию изначально; это элементарная генетическая матрица, в которой цель полагается в самом начале, она зафиксирована в коде, но не наличествует в итоге, потому что итога вообще нет. «…просто порядок целей уступает место игре молекул, а порядок означаемых — игре бесконечно малых означающих, вступающих только в случайные взаимоподстановки».
Поэтому симуляция, действующая на основе структурного закона ценности, и операциональна, что она оперирует уже зафиксированными в коде знаками. Отныне все, включая социальные отношения, (а, стало быть, и этико-онтологическая реальность) регулируется кодом. По словам Жана Бодрийяра, на стадии симуляции находит свое завершение длительный процесс, «когда один за другим умерли Бог, Че-ловек, Прогресс, сама История, уступив место коду, когда умерла трансцендентность, уступив место имманентности, соответствующей значительно более высокой стадии ошеломляющего манипулирова-ния общественными отношениями». Можно сказать, что и моральные ценности, начиная с этого периода, не только регулируются кодом, но и порождаются им, отныне это даже уже и не моральные ценности, а моральные симулякры . «В ходе бесконечного самовоспроизводства система ликвидиру-ет свой миф о первоначале и все те референциальные ценности, кото-рые она сама же выработала по мере своего развития».
Однако, по утверждению Жана Бодрийяра, с наступлением третьей фазы симуляции воспроизводиться может и само реальное, которое становится неотличимым от симулякров (вторичным по отношению к симулякрам). Исчезает различие между реальным и воображаемым, которое когда-то составляло «очарование» абстракции. Идеальное совпадение оригинала с его симулякром приводит к постепенному уничтожению всех референтов.
Божественные образы, иконы, возможно, есть не что иное, как ирреферентные божественные симулякры, или симулякры божества. «Но чем оно становится [божество], когда обнаруживается в иконах, когда множится в симулякрах? Остается ли оно высшей инстанцией, которая просто воплощается в образах видимой теологии? Или же оно исчезает в симулякрах, которые, единственные, раскрывают свою роскошь и мощь ослепления - видимый механизм икон, заменяющий чистую и сверхчувственную Идею Бога?». Главным свойством симуляции, по утверждению философа, является имитация несуществующего, в отличие от сокрытия чего-либо. «Скрывать значит делать вид, что не имеешь того, что есть на самом деле. Симулировать значит делать вид, что имеешь то, чего нет на самом деле. Одно отправляет к присутствию, другое - к отсутствию». Однако, по уточнению Бодрийяра, очень важно различать такие понятия, как, например, изображать болезнь и симулировать болезнь. «Тот, кто изображает болезнь, может просто лечь в постель и заставить поверить в то, что болен. Тот, кто симулирует болезнь, определяет в себе ее симптомы». Сущность симуляции заключается в том, что она, по выражению автора, ставит под сомнение отличие «настоящего» от «ложного», «реального» от «воображаемого». В то время как делать вид, изображать или скрывать не затрагивает сам принцип реальности: «различие всегда ясно, оно только замаскировано». Не имеет уже значения, болен на самом деле симулятор или нет, важно, что он производит «настоящие» симптомы. Объективно его нельзя посчитать ни больным, ни не-больным. Речь идет о «потерянном» принципе реальности, перед чем, по мысли самого философа, бессильны и медицина, и психология, и психоанализ. «Разумеется, врач-психиатр уверяет в том, что «для каждой формы умопомешательства есть особое место в последовательности симптомов, о которых симулятор не знает, и чье отсутствие не ввело бы в заблуждение психиатра». «Все это для того, чтобы, во что бы то ни стало, спасти принцип истинности и избежать вопроса, который задает симуляция - понять, что правда, референция, объективная причина перестали существовать». Сам дискурс отныне не может быть определен ни как ложный, ни как истинный. «Что может поделать психоанализ с раздвоением дискурса бессознательного в дискурсе симуляции?». Невозможным также становится различие между симптомами произведенными и аутентичными. «Если он так хорошо изображает сумасшедшего, значит, он таким и является».
Таким образом, проявления симуляции повсеместно затронули различные области человеческого существования, медицины, психоанализа, религии и другие.
Говоря о различии между симуляцией и репрезентацией, Жан Бодрийяр выводит, что последняя исходит, прежде всего, из принципа эквивалентности знака и реальности («даже если этот эквивалент утопичен, это фундаментальная аксиома»). Симуляция исходит, наоборот, из «утопии принципа равенства, она исходит из радикального отрицания знака как ценности, исходит из знака как возвращения к прежнему состоянию и уничтожения всякой референции». При этом происходит переход от «знаков, которые что-то скрывают, к знакам, которые скрывают, что нет ничего». Последние образуют эру симулякров и симуляции, где «нет больше Бога […], нет больше последнего Суда, чтобы отделить ложное от истинного, реальное от искусственного воскрешения, так как все уже мертво и заранее воскрешено».
С наступлением эры симуляции, преобразованием реальности в гиперреальность, появляется феномен так называемой ностальгии, «повышается» ценность изначальных мифов и знаков реальности, а также истины, объективности и аутентичности. Воскрешение фигуративного происходит там, где объект и субстанция подверглись ранее исчезновению. По выражению философа, начинается безудержное и безумное производство реального и референциального, которое по своим масштабам превосходит даже материальное производство. Определяя логику симулякров как не имеющую ничего общего с логикой фактов и разумным порядком, Бодрийяр утверждает, что один и тот же факт может быть образован случайным предшествованием ему нескольких моделей, так как сама симуляция характеризуется, прежде всего, и прецессией симулякров реальному, и прецессией моделей, предопределяющих реальный факт.
Последний в этом случае относится уже к событиям гиперреальным, которые, как говорит Жан Бодрийяр, больше не имеют ни содержания, ни собственных целей и бесконечно «преломляются одни другими (так же как исторические события: восстания, демонстрации, кризисы и т.д.)». Из чего следует, что подобные события лишаются действительной этической значимости, являясь симулякрами события.
Важную роль в формировании симулякров событий, оценочных реакций, этических ценностей, поведенческих актов с позиций морали играет медиум , в понятие которого философ вкладывает все разнообразие средств массовой информации. Этика неизбежно оказывается вовлечена в информационный процесс и связана с источниками и средствами информации, что является одним из условий ее социокультурного функционирования. «Особенно большое значение имеют средства информации, ибо они самым существенным образом влияют на структуру морального сознания и характер применения моральных норм и принципов». Базируясь на принципиально ином, по отношению к традиционной этике, типе информации, постмодернистская мораль основывается на информации, связанной, прежде всего, с медийными носителями. В свою очередь, подобная взаимосвязанность влияет на восприятие субъектом потока моральной информации.
Пользуясь латинским словом «медиум» (лат. medium - «по середине», «средний»), к которому восходит термин мессмедиа и само понятие СМИ, Жан Бодрийяр делает акцент таким образом на масштабности и характере функции всех типов средств массовой информации, а именно на функции посредничества и носителя информации, понимаемого как техническая производительная сила, порождающая симулякры. Сам язык, символическая система, превращается в медиум на уровне знака и рекламного дискурса. Повсюду массовая коммуникация определяется этой систематизацией на уровне технического медиума и кода, систематическим производством сообщений, истоком которых является не реальный мир, а сам медиум. В подобном контексте медиум выступает как транслятор нравственных ценностей, носитель моральной информации и средство формирования симулякров, моделью для которых выступают разнообразные феномены морали. С точки зрения производства симулякров наиболее грандиозной и масштабной предстает как раз медиатическая сфера, способная затронуть любые другие области, политическую, биологическую, медицинскую, психологическую и другие, и именно медиуму Бодрийяр уделяет значительное внимание в своей концепции симулякров. Важно еще и то, что информация масс-медиа больше не имеет ничего общего с «реальностью» фактов; «реальность» также уже протестирована. «Мы входим здесь в мир псевдо-события, псевдо-истории, псевдо-культуры […] Т.е. события, истории, культуры, идей, произведенных не живым опытом, противоречивым, реальным, а произведенных наподобие артефактов посредством элементов кода и технической манипуляции медиума. Предстоящее потреблению событие отфильтровывается, дробится, перерабатывается целым индустриальным конвейером производства».
«Повсюду можно наблюдать прецессию средств массовой информации в отношении террористического насилия. Именно это придает насилию специфически современную форму, гораздо более современную, нежели так называемые «объективные причины», которые мы стараемся ему приписать: ни политические, ни социальные, ни психологические причины несоизмеримы с этим событием». По мнению философа, такое событие как террористический акт представляет собой воспроизведенный медиумом знак, смысл которому придают сами СМИ, а также реципиент информации, моральная оценка которого является «следствием прецессии симулякров» или моральным симулякром. «Насилие потенциально существует в пустоте экрана благодаря дыре, которую он открывает в ментальное пространство». Что стало бы с событием террористического акта, если бы о нем никто ничего не узнал? Таким образом, можно сказать, что само реальное событие, реальный террористический акт не происходит, имеет место лишь симулякр события, являющийся следствием преднамеренного производства со стороны медиума. Речь идет об антиципации события, или о прецессии симулякров. «В своей основе насилие, как и терроризм, не событие, а скорее отсутствие события, принимающее форму взрыва, направленного внутрь
: взрывается политическая пустота (а не злоба той или иной группы людей), молчание истории (а не психологическое подавление индивидуумов), безразличие, безмолвие».
Однако постмодернистская ситуация далеко не исчерпывается условиями тотальной симуляции, к которой прибавляются замещение субъекта разнообразными безличными структурами, производство знаковых, а не материальных ценностей, смена познавательной парадигмы. В результате всего этого сама система ценностей неизбежно оказалась исчерпавшей себя, что обусловило потребность в новых этических основаниях и возрождении ценностных ориентиров. Подобная необходимость кроется в самой постмодернистской ситуации, вобравшей в себя изменившееся сознание, отношение к действительности, условия тотальной симуляции, и те технические причины, которые повлекли за собой такие масштабные модификации. Несомненно, что проект тотальной симуляции, помещающий человека в пространство виртуальных отношений, является тем переживаемым опытом, который разрушает традиционные нравственные категории. Поэтому большинство критиков постмодернистской ситуации уже говорят о необходимости возврата к истокам собственной ответственности. И если «после смерти Бога возвещается смерть человека», то человечеству необходимо искать этические основания в самом себе.
Печенкина О.А.
Обратно в раздел
Симуляция от латинского simulatio – притворство, видимость. Симуляция имеет целью убедить наблюдателя в действительности того, чего нет на самом деле.
Симулякры - это «копия» не имеющая оригинала в реальности. Симулякр - псевдовещь, изображение без оригинала, репрезентация чего-то, что на самом деле не существует.
Изучить данную тему в подробностях позволяет книга Жана Бодрийяра «Симулякры и симуляция», которая была издана в 1981 году. Просмотрев, произведение я поняла, что она поразительным образом отображает то, что происходит сейчас в мире. Мы живем в обществе симуляции. Почитать и поразмыслить над доводами философа будет интересно.
Замысел книги заключен в том, что гиперреальность, образованная тонкой процессией симулякров, стала нам гораздо роднее и ближе, чем настоящая реальность во всех направлениях жизни. Автор излагает факт повсеместной симуляции. И подтверждает примерами из различных областей жизни общества свою правоту.
Мы встречаемся с симуляцией постоянно. Так, по мнению Бодрийяра, университеты симулируют образование. Преподаватели делают вид, что дают знания, а студенты, что учатся. Больницы симулируют заботу о здоровье общества. Ведь если бы люди по настоящему хотели быть здоровыми, то заботились об этом сами, предотвращая болезни. Симуляция проходит везде. Вместо того, чтобы ходить ногами по улице, люди привозят на автомобилях себя в фитнес-залы и там ходят по беговым дорожкам. Большинство работ сегодня превратилось в чистого рода симуляцию. Они потеряли смысл. Цель таких работ - занять людей, растратить их энергию. И даже невозможно понять для чего и зачем. Так ли это?
Далее автор переходит на еще одну наилюбимейшую территорию симуляции – территорию религии. Чем становится божество, когда предстает в иконах, когда множится в симулякрах? Остается ли оно высшей инстанцией, лишь относительно зафиксированный в образах наглядного богословия? Или испаряется в симулякрах, которые сами показывают свою силу, которые очаровывают,- нагядность икон заменяет при этом чистую и сверхчувственную Идею Бога? Собственно из предчувствия этой мощности симулякров, этому умению их стирать Бога из уразумения людей и этой губительно, убийственной истины, которую они собой заявляют,- что, в сущности, Бога никогда не было, что всегда существовал лишь его симулякр, или даже сам Бог всегда был лишь своим личным симулякром,- и происходил позыв иконоборцев избавляться от икон.
Современный век, как и всякая новая ступень в развитии общества, ознаменовал себя самыми разными изменениями. Пришел век минималистической морали, независимой от каких-либо предписаний, множественности истины, которые негативно сказались на устоявшемся мировоззрении человека, на системе моральных правил общества. Выражение симуляции повсеместно затронули различные области человеческого существования религии, психоанализа, политики медицины и другое. В то время как происходит переход от «знаков, которые что-то скрывают, к знакам, которые скрывают, что нет ничего». Последние образуют эру симулякров и симуляции. С наступлением эры симуляции, видоизменением реальности в гиперреальность, появляется понятие так называемой ностальгии, «повышается» ценность изначальных мифов и знаков реальности, а также объективности и истины. Неотъемлемой характеристикой современного общества, которое принято называть информационным, является мощное развитие компьютерных технологий. Человек сегодня имеет дело не только с естественной и искусственно созданной культурной средой, а так же и со средой виртуальной, что предопределяет возникновение качественно новых отношений с окружающей действительностью, в частности проблему соотношения реальности и ее символического отображения. Ж. Бодрийяр социальную систему рассматривает как производную от знаковой системы. Симулякр- единица знаковой системы. Симулякр определяется автором, во-первых, как ложное подобие, копия, скрывающая отсутствие оригинала и поэтому творящая зло, и, во-вторых, как воображаемое, иллюзия, образ идеологизированного сознания. Определяя симулякр как ложную копию, Ж. Бодрийяр рассматривает историю общества как процесс заселения социальной реальности ложными объектами.
Основным параметром гиперреальности, в который мы ныне пребываем, является отсутствие различий между воображаемым и реальным. Показав всемогущество симулякра, автор переходит к анализу этого всеобъемлющего явления. Он выделяет фазы того, как отображение реального превращалось в симулякр. "Переход от знаков, которые скрывают нечто, к знакам, которые скрывают, что за ними нет ничего", - как раз и показывает эру симуляцию.
Сегодня реальное стало алиби модели в мире, которым заправляет принцип симуляции. И, как это ни странно, именно реальное становится нашей настоящей утопией, но той утопией, осуществить которую уже нельзя, о которой можно лишь мечтать как о потерянном безвозвратно. Мы стали не способны представить себе какой-либо другой мир. Теперь невозможно построить нереальное на основе реального, воображаемое на фундаменте данных о реальном. Процесс будет идти скорее в обратном направлении: он будет содержать в децентрации ситуаций и моделей симуляции, в различных попытках присвоить им красок реального, пережитого повседневного, в переосмыслении реального как вымыщленного, и именно потому, что оно исчезло из нашей жизни. Больше нет ни реальности, ни фантастики, их заменила гиперреальность.
Известная глава "О нигилизме" – мощный заключительный аккорд всей книги. В сущности, это объявление, где все основные понятия изложены в краткой форме. Бодрийяр, попорядку похоронивший все, что мог в предыдущих главах, хоронит здесь и саму философию: ее также подмяла под себя симуляция. В связи с этим Бодрийяр отказывается считать себя философом и сообщает, что он "террорист в теории, как иные террористы с оружием в руках". Потому истину уже невозможно различить за симулякром, его метод – интеллектуальный теракт. "Теоретическое насилие, а не истина, является тем единственным ресурсом, который у нас остался". Из симуляции для человечества нет выхода, единственное решение - смерть, а в идеале – глобальный катаклизм, Апокалипсис.
Жан Бодрийяр в книге показывает нам «нереальность происходящего». Мы живем в мире «симулякров»- сказал он, доказывая это горой примеров. По Бодрийяру мы потеряли нить с реальностью и влились в эру гиперреальности – эпохи, в которой обвертка важнее содержания, а связь между предметами, явлениями и их значением нарушена.
Читать книгу Бодрийяра «Симулякры и симуляция» сложно Автор ведет несколько основных идей с разных сторон, рассматривает их проявления во всех сферах жизни. Часть описанных в книге примеров носит локальный характер и понятна не каждому читателю, а только узкому кругу специалистов. С наступлением эры симуляции, преобразованием реальности в гиперреальность, появляется и усиливается явление ностальгии о потерянном, во стократ возрастает ценность изначальных мифов и знаков реальности, а также истины и объективности. Определяя логику симулякров как не имеющую ничего общего с логикой фактов и разумным порядком, Бодрийяр утверждает, что события больше не имеют ни содержания, ни собственных целей и бесконечно «заменятся» одни другим. Как следствие, события перестают быть значимыми и являются только лишь симулякрами этих событий.
После прочтения книги остается впечатление, что в мире нет вообще ничего реального. Перебирая одну за другой сферы современной жизни: экономическую, социальную, религиозную, политическую, культурную, научную, автор с горечью заключает: перенасыщенная система обречена на имплозию, взрыв, направленный не наружу, а внутрь. Чтобы скрыть последствия этого взрыва (фактически, приводящего к смерти) существующая система опять использует симуляцию, порождая бесчисленные симулякры. Апокалипсис сегодня – это процесс обессмысливания, выхолащивания реальности. Мое личное мнение во многом противоречит утверждениям Бодрийяра. По многим вопросам я не согласна с его мнением. Реальность это согласие и в этом смысле не имеет значения по какому поводу, было ли что-то на самом деле или нет, все о чем ни шла бы речь или повествование уже в прошлом и доказать что оно было таким или другим невозможно, а нынешнего по существу вообще нет. Нынешнее это только наше намерение считать реальность таковой, как мы ее себе представляете. Более того, человеку просто нравится то, что ему нравится и для того, чтобы это было «реальностью» для него самого, вовсе не обязательно, чтобы это нравилось еще кому-то. Реальность это то, по поводу чего существует согласие. Чем больше согласия, тем значительнее реальность.
Книга читается сегодня очень свежо, хотя была написана Бордрийяром более тридцати лет назад. Достаточно включить телевизор, полазить в интернете, послушать, о чем говорят люди и поймешь, что все-же француз отчасти в чем-то прав, хотя конечно сгустил краски для большей наглядности. Спорить, соглашаться или возражать хочется автору во время чтения книги, а затем сопоставлять, и анализировать. Эти чувства еще раз доказывают, что книга интересна. Недаром именно эту книгу открывает в начале фильма Нео в фильме «Матрица».
Прочитав книгу, я задумалась и попыталась понять о глубинном смысле. Книга сложная, но она стоит того, чтобы ее читали.
Список литературы:
- Б75 Бодрийяр, Ж. Симулякры и симуляция/ Simulacres es simulation (1981, рус. Перевод 2013, пер.О.А. Печенкина, 204с.
- Печенкина О. А. Этика симулякров Жана Бодрийяра (http://cheloveknauka.com/etika-simulyakrov-zhana-bodriyyara) автореферат диссертации по философии (2006)
- Сокол А., Брикмон Ж. Интеллектуальные уловки, Критика философии постмодерна (http://scepsis.net/library/id_1119.html) Пер. с английского Анны Костиковой и Дмитрия Кралечкина. Предисловие С.П. Капицы (2011)
Интеллектуальный «гуру» постмодернизма, который некогда открыл нам глаза на «нереальность происходящего». «Мы живём в мире симулякров» - сказал он, подтвердив это грудой примеров: труд больше не является производительным, он, скорее, несёт социальную функцию («все должны быть при деле»), представительные органы власти никого уже не представляют, теперь не базис определяет надстройку, а наоборот. Так, по Бодрийяру, мы утратили связь с реальностью и вошли в эру гиперреальности - эпохи, в которой картинка важнее содержания, а связь между предметами, явлениями и их знаками нарушена (за концепцию фильма «Матрица» мы как раз Бодрийяру должны сказать спасибо, хотя он был убеждён, что его идеи исказили).
Немалую роль в этом процессе Жан Бодрийяр отводит СМИ: по его мнению, современный безумный поток информации создаёт огромное количество копий и симулякров, которые в конце концов уничтожают реальность. Более того, замечает Бодрийяр, чем больше становится информации, тем меньше смысла, хотя, по логике, всё должно быть наоборот. Анализу именно этой проблемы посвящена целая глава его книги «Симулякры и симуляции» (1981 г.). Итак, Monocler предлагает почитать и разобраться, почему происходит тотальная инфляция информации и что с этим делать.
ИМПЛОЗИЯ СМЫСЛА В СРЕДСТВАХ ИНФОРМАЦИИ

Мы находимся в мире, в котором становится все больше и больше информации и все меньше и меньше смысла. В связи с этим возможны три гипотезы:
Либо информация продуцирует смысл (негэнтропийный фактор), но оказывается неспособной компенсировать жестокую потерю смысла во всех областях. Попытки повторно его инъецировать, через все большее число СМИ, сообщений и контентов оказываются тщетными: потеря, поглощение смысла происходит быстрее, чем его повторная инъекция. В этом случае следует обратиться к производительному базису, чтобы заменить терпящие неудачу СМИ. То есть к целой идеологии свободы слова, средств информации, разделенных на бесчисленные отдельные единицы вещания, или к идеологии «антимедиа» (радиопираты и т.д.).
Либо информация вообще ничего общего не имеет с сигнификацией. Это нечто совершенно иное, операционная модель другого порядка, внешнего по отношению к смыслу и его циркуляции. Такова, в частности, гипотеза К. Шеннона, согласно которой сфера информации, сугубо инструментальная, техническая среда, не предполагает никакого конечного смысла и поэтому также не должна участвовать в оценочном суждении. Это разновидность кода, такого как генетический: он является тем, что он есть, он функционирует так, как функционирует, а смысл - это что-то иное, что появляется, так сказать, после факта, как у Моно в работе «Случайность и необходимость». В этом случае, просто не было бы никакой существенной связи между инфляцией информации и дефляцией смысла.
Либо, напротив, между этими двумя явлениями существует жесткая и необходимая корреляция в той мере, в какой информация непосредственно разрушает или нейтрализует смысл и сигнификацию. Тем самым оказывается, что утрата смысла напрямую связана с разлагающим, разубеждающим действием информации, средств информации и средств массовой информации.
Это наиболее интересная гипотеза, однако она идет вразрез с общепринятым мнением. Социализацию повсеместно измеряют через восприимчивость к сообщениям СМИ. Десоциализированным, а фактически асоциальным является тот, кто недостаточно восприимчив к средствам информации. Информация везде, как полагают, способствует ускоренному обращению смысла и создает прибавочную стоимость смысла, аналогичную той, которая имеет место в экономике и получается в результате ускоренного обращения капитала. Информацию рассматривают как создательницу коммуникации, и, несмотря даже на огромные непроизводственные затраты, существует общий консенсус относительно того, что мы имеем дело все же с ростом смысла, который перераспределяется во всех промежутках социального - точно так же, как существует консенсус относительно того, что материальное производство, несмотря на сбои и иррациональность, все же ведет к росту благосостояния и социальной гармонии. Мы все причастны к этому устойчивому мифу. Это - альфа и омега нашей современности, без которых было бы подорвано доверие к нашей социальной организации. И, однако, факт состоит в том, что оно-таки подорвано, причем именно по этой самой причине: там, где, как мы полагаем, информация производит смысл, происходит обратное.
Информация пожирает свой собственный контент. Она пожирает коммуникацию и социальное. И это происходит по двум причинам:
1. Вместо того, чтобы создавать коммуникацию, информация исчерпывает свои силы в инсценировке коммуникации. Вместо того, чтобы производить смысл, она исчерпывает свои силы в инсценировке смысла. Перед нами очень знакомый гигантский процесс симуляции. Неподготовленные интервью, телефонные звонки зрителей и слушателей, всевозможная интерактивность, словесный шантаж: «Это касается вас, событие - это вы и т.д.». Во все большее количество информации вторгается этот вид призрачного контента, этого гомеопатического прививания, эта мечта пробудить коммуникацию. Круговая схема, в которой на сцене разыгрывают то, чего желает аудитория, антитеатр коммуникации, который, как известно, всегда является лишь повторным использованием через отрицание традиционного института, интегрированной отрицательной схемой. Огромная энергия, направленная на удержание симулякра на расстоянии, чтобы избежать внезапной диссимуляции, которая поставила бы нас перед очевидной реальностью радикальной потери смысла.
Бесполезно выяснять, потеря ли коммуникации ведет к этой эскалации в пределах симулякра, или это симулякр, который первым появляется здесь с целью апотропии, с целью заранее воспрепятствовать любой возможности коммуникации (прецессия модели, которая кладет конец реальному). Бесполезно выяснять что первоначально, ни то и ни другое, потому что это циклический процесс - процесс симуляции, процесс гиперреального. Гиперреальность коммуникации и смысла. Более реальное, чем само реальное, - вот так оно и упраздняется.
Таким образом, не только коммуникация, но и социальное функционируют в замкнутом цикле, как соблазн, к которому приложена сила мифа. Доверие, вера в информацию присоединяется к этому тавтологическому доказательству, которое система предоставляет о самой себе, дублируя в знаках неуловимую реальность.
Однако можно предположить, что эта вера столь же неоднозначна, как и вера, сопровождающая мифы в архаичных обществах. В них верили и не верили. Никто не терзается сомнениями: «Я знаю точно, и все же...». Этот вид обратной симуляции возникает в массах, в каждом из нас, в ответ на симуляцию смысла и коммуникации, в которой нас замыкает эта система. В ответ на тавтологичность системы возникает амбивалентность масс, в ответ на апотропию - недовольство или до сих пор загадочное верование. Миф продолжает существовать, однако не стоит думать, что люди верят в него: именно в этом кроется ловушка для критической мысли, которая может работать лишь исходя из предположения о наивности и глупости масс.
2. В дополнение к этому, чрезмерной инсценировкой коммуникации СМИ усиленно добиваются информацией непреодолимой деструктуризации безотзывного социального.
Так информация разлагает смысл, разлагает социальное, превращает их в некую туманность, обреченную вовсе не на рост нового, а наоборот, на тотальную энтропию.
Таким образом, средства массовой информации - это движители не социализации, а как раз наоборот, имплозии социального в массах. И это лишь макроскопическое расширение имплозии смысла на микроскопическом уровне знака. Эту имплозию следует проанализировать, исходя из формулы Маклюэна «medium is the message» (средства коммуникации - это и есть сообщение), возможные выводы из которой еще далеко не исчерпаны.
Она означает, что все контенты смысла поглощаются единственной доминирующей формой медиа. Одни лишь медиа-средства являются событием – безотносительно содержания, конформистского или субверсивного. Серьезная проблема для любой контринформации, радиопиратов, антимедиа и т.д.
Однако существует еще более серьезная проблема, которую сам Маклюэн не обнаружил. Ведь за пределами этой нейтрализации всех контентов можно было бы надеяться на то, что медиа еще будут функционировать в своей форме, и что реальное можно будет трансформировать под влиянием медиа как формы. Если весь контент будет упразднен, останется, возможно, еще революционная и субверсивная ценность использования медиа как таковых. Следовательно, - и это то, к чему в своем предельном значении ведет формула Маклюэна, - происходит не только лишь имплозия сообщения в медиа, но, в том же самом движении, происходит и имплозия медиа в реальном, имплозия медиа и реального в некий род гиперреальной туманности, в которой больше неразличимы определение и собственное действие медиа.
Даже «традиционный» статус самих СМИ, характерный для современности, поставлен под сомнение. Формула Маклюэна: медиа - это сообщение, являющееся ключевой формулой эры симуляции (медиа является сообщением - отправитель является адресатом, замкнутость всех полюсов - конец перспективного и паноптического пространства - таковы альфа и омега нашей современности), сама эта формула должна рассматриваться в своем предельном выражении, то есть: после того как все контенты и сообщения испарятся в медиа, сами медиа исчезнут как таковые. В сущности, это еще благодаря сообщению медиа приобретают признаки достоверности, это оно предоставляет медиа их определенный, отчетливый статус посредника коммуникации. Без сообщения медиа сами попадают в неопределенность, присущую всем нашим системам анализа и оценки. Лишь модель, действие которой является непосредственным, порождает сразу сообщение, медиа и «реальное».
Наконец, «медиа - это сообщение», означает не только конец сообщения, но и конец медиа. Больше нет медиа в буквальном смысле слова (я имею в виду, прежде всего электронные средства массовой информации), то есть инстанции, которая была бы посредником между одной реальностью и другой, между одним состоянием реального и другим. Ни по содержанию, ни по форме. Собственно, это то, что и означает имплозия. Взаимопоглощение полюсов, короткое замыкание между полюсами любой дифференциальной системы смысла, стирание четких границ и оппозиций, включая оппозицию между медиа и реальным, - следовательно, невозможность любого опосредствованного выражения одного другим или диалектической зависимости одного от другого. Циркулярность всех эффектов медиа. Следовательно, невозможность смысла в значении одностороннего вектора, идущего от одного полюса к другому. Необходимо до конца проанализировать эту критическую, но оригинальную ситуацию: это единственное, что остается нам.
Бесполезно мечтать о революции через содержание, тщетно мечтать о революции через форму, потому что медиа и реальное составляют отныне единую туманность, истина которой не поддается расшифровке.
Факт этой имплозии контентов, поглощения смысла, исчезновения самих медиа, резорбции любой диалектики коммуникации в тотальной циркуляции модели, имплозии социального в массах может показаться катастрофическим и отчаянным. Однако это выглядит так лишь в свете идеализма, который полностью доминирует в нашем представлении об информации. Мы все пребываем в неистовом идеализме смысла и коммуникации, в идеализме коммуникации посредством смысла, и в этой перспективе нас как раз и подстерегает катастрофа смысла.
Однако следует понимать, что термин «катастрофа» имеет «катастрофическое» значение конца и уничтожения лишь при линейном видении накопления, влекущего за собой завершенность, которое навязывает нам система. Сам термин этимологически означает всего-навсего «заворот», «сворачивание цикла», которое приводит к тому, что можно было бы назвать «горизонтом событий», к горизонту смысла, за пределы которого невозможно выйти: по ту сторону нет ничего, что имело бы для нас значение, - однако достаточно выйти из этого ультиматума смысла, чтобы сама катастрофа уже больше не являлась последним днем расплаты, в качестве которой она функционирует в нашем современном воображаемом.
За горизонтом смысла - завороженность, являющаяся результатом нейтрализации и имплозии смысла. За горизонтом социального - массы, представляющие собой результат нейтрализации и имплозии социального.
Главное сегодня - оценить этот двойной вызов - вызов смысла, брошенный массами и их молчанием (которое вовсе не является пассивным сопротивлением) - вызов смысла, который исходит от средств информации и их гипноза. Все попытки, маргинальные и альтернативные, воскресить какую-то частицу смысла, выглядят по сравнению с этим как второстепенные.
Совершенно очевидно, что в этом сложном соединении масс и средств информации кроется некий парадокс: или это СМИ нейтрализуют смысл и продуцируют «бесформенную» или информированную массу, или это массы удачно сопротивляются средствам информации, отвергая или поглощая без ответа все сообщения, которые те продуцируют? Ранее, в «Реквиеме по массмедиа», я проанализировал и описал СМИ как институт ирреверсивной модели коммуникации без ответа. А сегодня? Это отсутствие ответа можно понять уже не как стратегию власти, а как контрстратегию самих масс, направленную против власти. Что в таком случае?
Находятся ли СМИ на стороне власти, манипулируя массами, или они на стороне масс и занимаются ликвидацией смысла, творя не без доли наслаждения насилие над ним? Вводят ли медиа массы в состояние гипноза, или это массы заставляют медиа превращаться в бессмысленное зрелище? Могадишо-Штаммхайм: СМИ сами себя превращают в средство морального осуждения терроризма и эксплуатации страха в политических целях, но, одновременно с этим, в совершеннейшей двусмысленности, они распространяют бесчеловечное очарование терактом, они сами и есть террористы, поскольку сами подвержены этому очарованию (вечная моральная дилемма, ср. Умберто Эко: как избежать темы терроризма, как найти правильный способ использования средств информации - если его не существует). СМИ несут смысл и контрсмысл, они манипулируют во всех направлениях сразу, этот процесс никто не может контролировать, они - средства внутренней по отношению к системе симуляции, и симуляции, которая разрушает систему, что в полной мере соответствует ленте Мебиуса и логике кольца – они в точности с ней совпадают. Этому не существует ни альтернативы, ни логического решения. Лишь логическое обострение и катастрофическое разрешение.
С одной поправкой. Мы находимся один на один с этой системой в раздвоенном и неразрешимом положении «двойного послания» - точно так, как дети один на один с требованиями взрослого мира. От них требуют одновременно становиться самостоятельными, ответственными, свободными и сознательными субъектами и быть покорными, инертными, послушными, что соответствует объекту (примеч. Double bind – с англ. яз. двойное послание, двойная связь; концепция, играющая ключевую роль в теории шизофрении Г. Бейтсона. По сути, double bind является парадоксальным предписанием, которое в итоге приводит к безумию:«Приказываю тебе не выполнять моих приказов». Примером такого поведения может служить то, как мать на словах просит своего ребенка о выражении любви, однако одновременно с помощью жестов требует от ребенка держаться на некотором расстоянии от нее. Это приводит к тому, что любое действие ребенка будет расценено как неверное, и в дальнейшем ему может оказаться сложным как-то разрешить эту ситуацию ). Ребенок сопротивляется по всем направлениям и на противоречивые требования также отвечает двойной стратегией. Требованию быть объектом он противопоставляет все возможные варианты неповиновения, бунта, эмансипации, словом, самые настоящие претензии субъекта. Требованию быть субъектом он так же упорно и эффективно противопоставляет сопротивление, присущее объекту, то есть совсем противоположное: инфантилизм, гиперконформизм, полную зависимость, пассивность, идиотизм. Ни одна из двух стратегий не имеет большей объективной ценности, чем другая. Сопротивление субъекта сегодня однобоко ценится выше и рассматривается как положительное - так же, как в политической сфере лишь поведение, направленное на освобождение, эмансипацию, самовыражение, становление в качестве политического субъекта, считается достойным и субверсивным. Это означает игнорирование влияния, такого же и, безусловно, гораздо более значительного, поведения объекта, отказ от позиции субъекта и осознания - именно таково поведение масс, - которые мы предаем забвению под пренебрежительным термином отчуждения и пассивности.